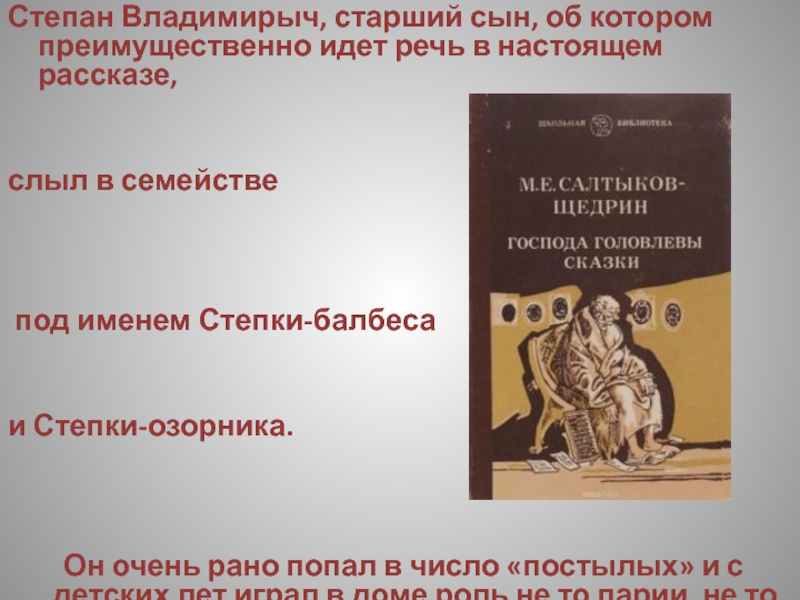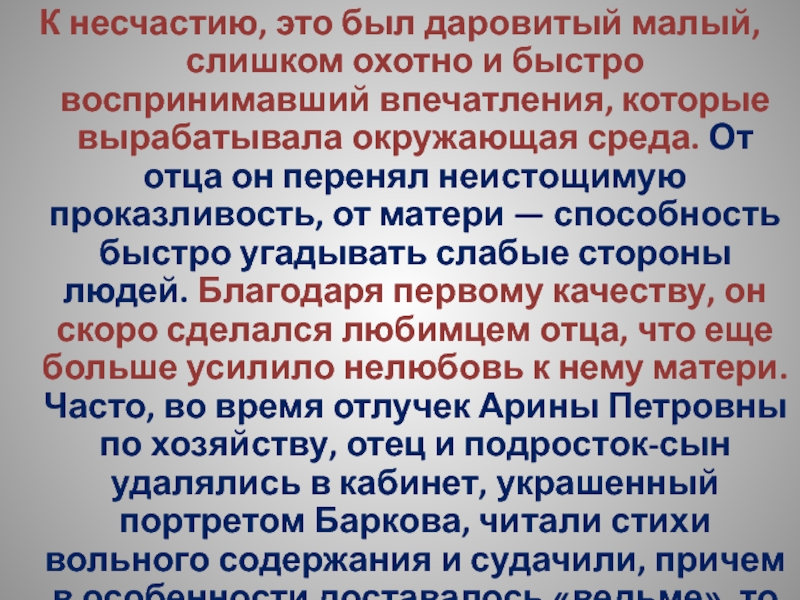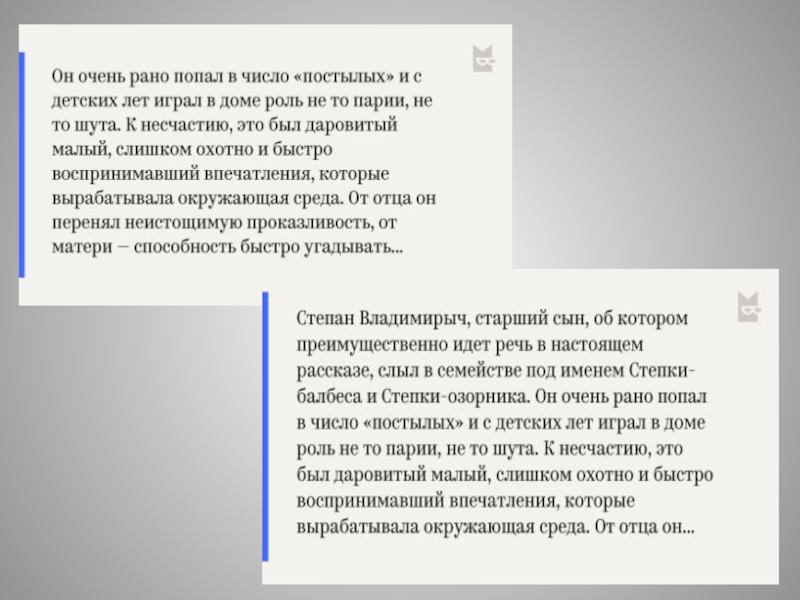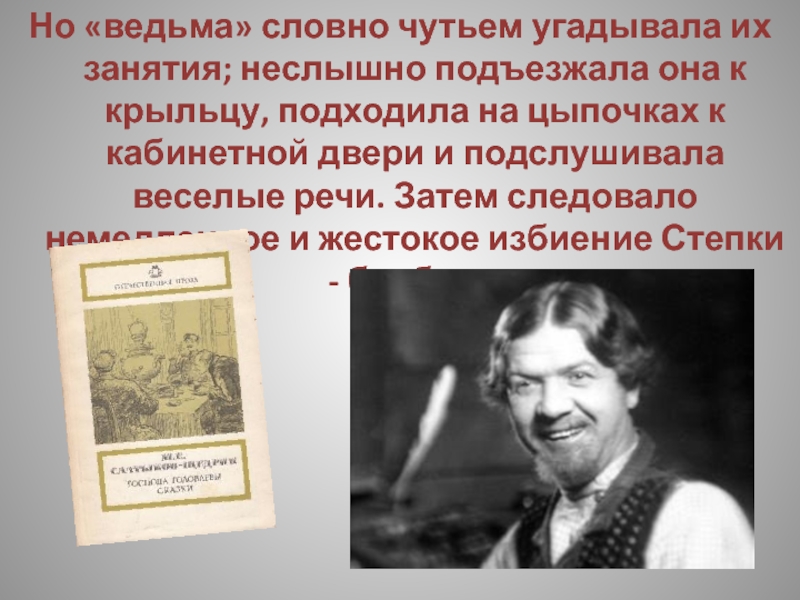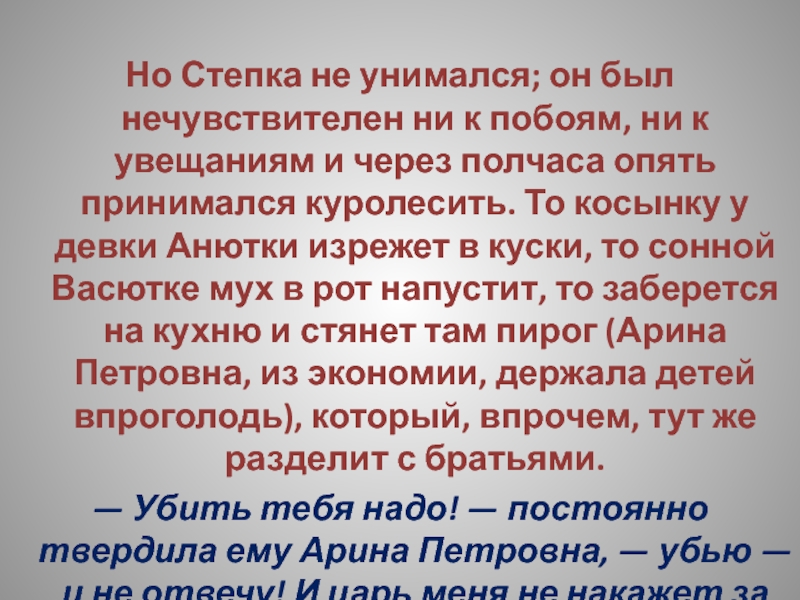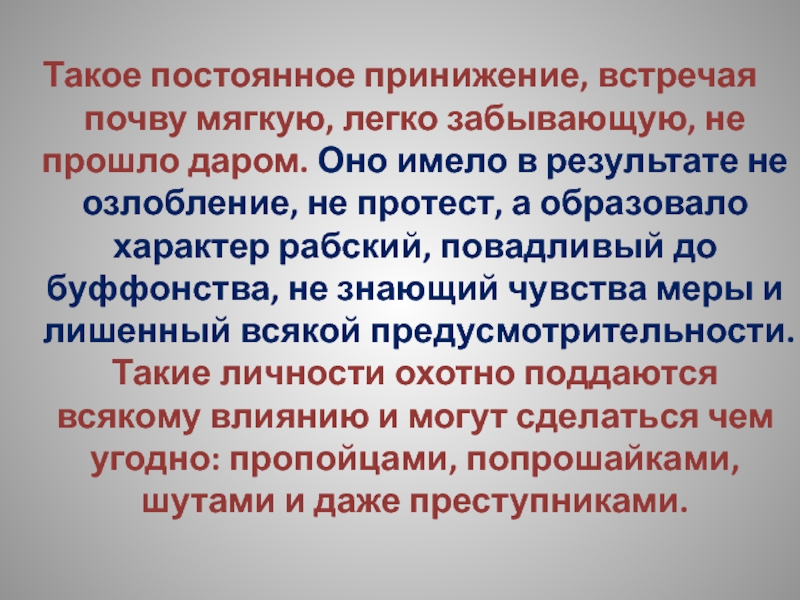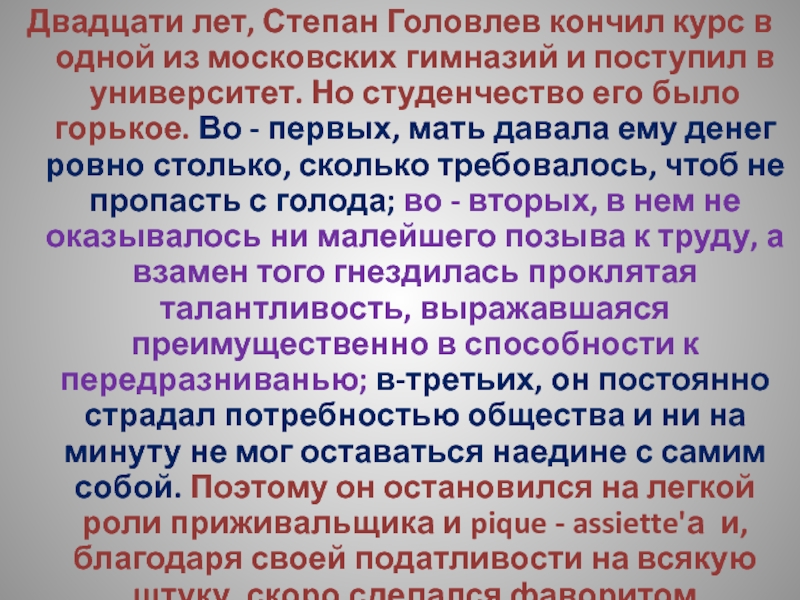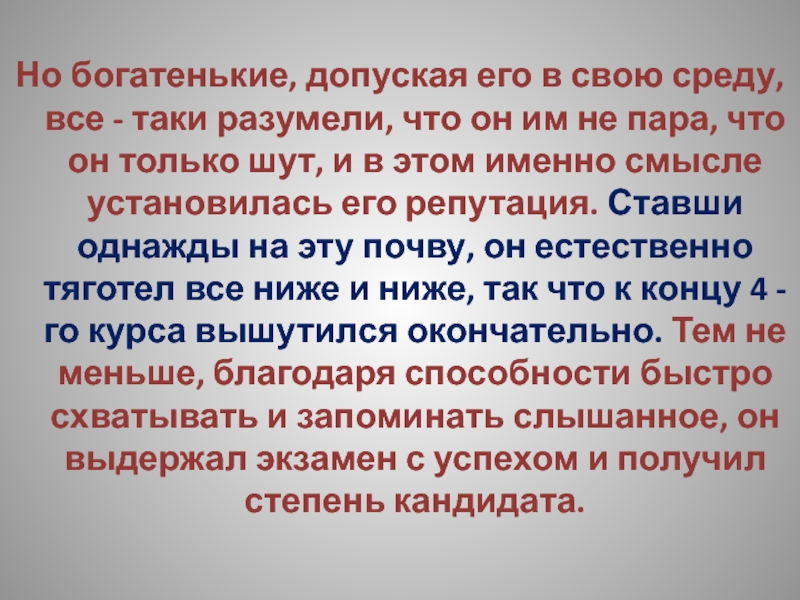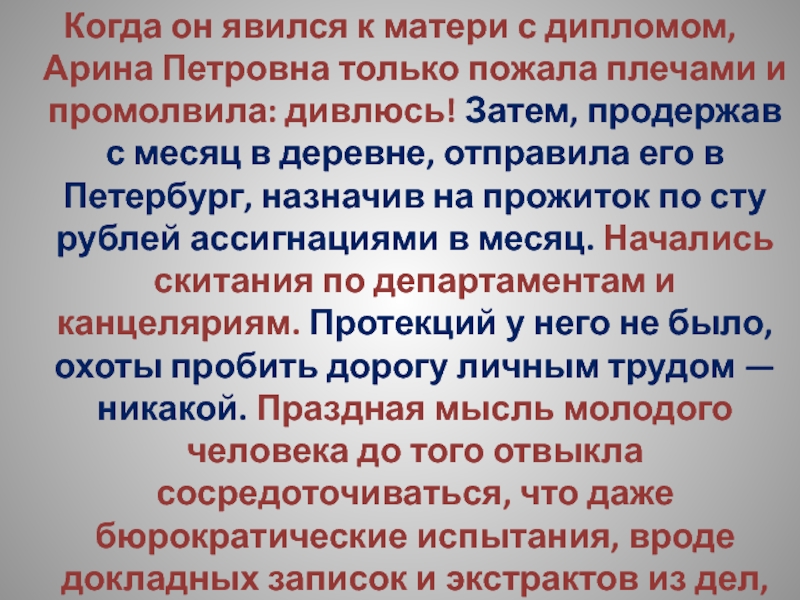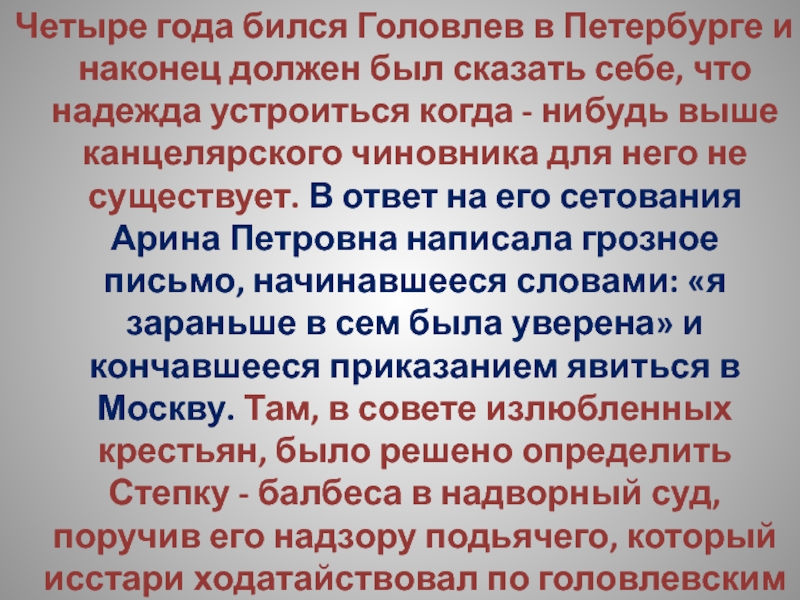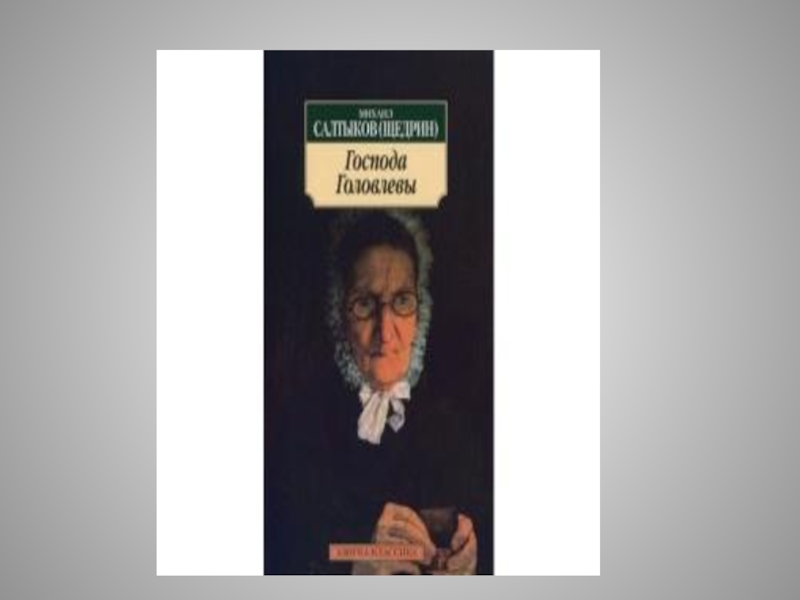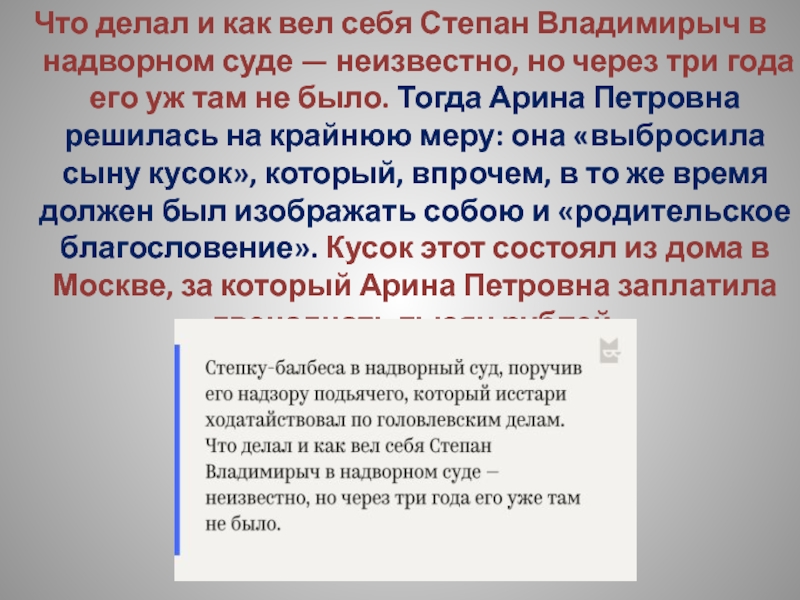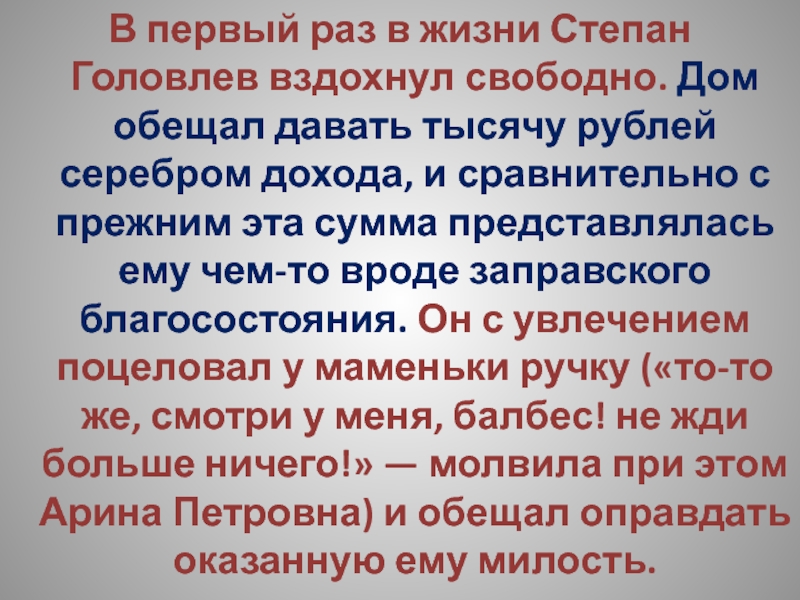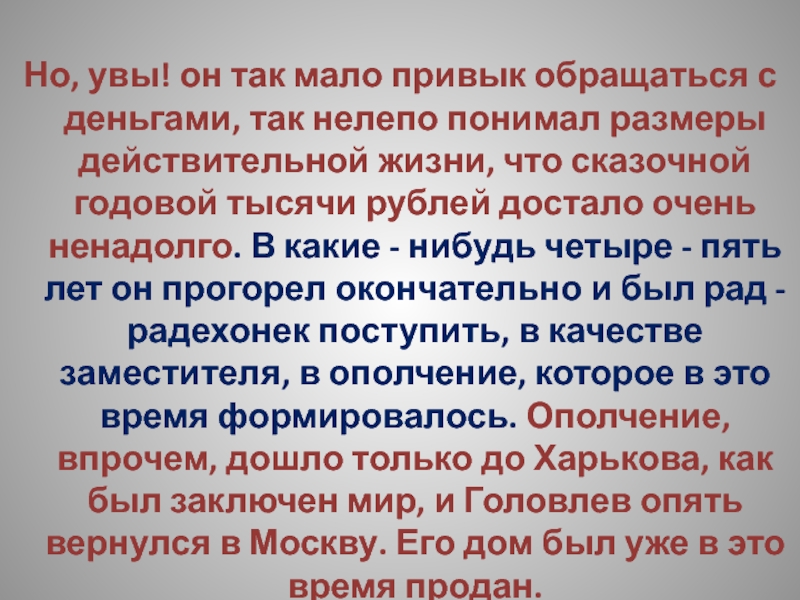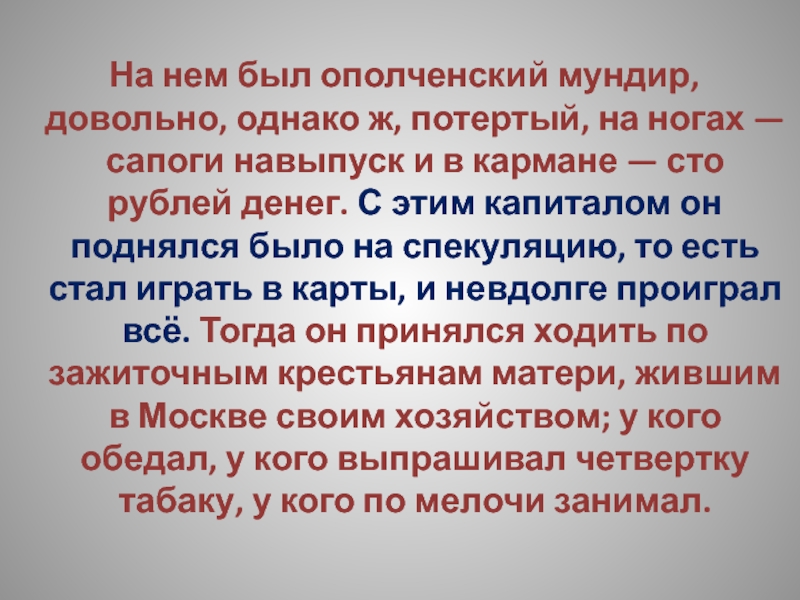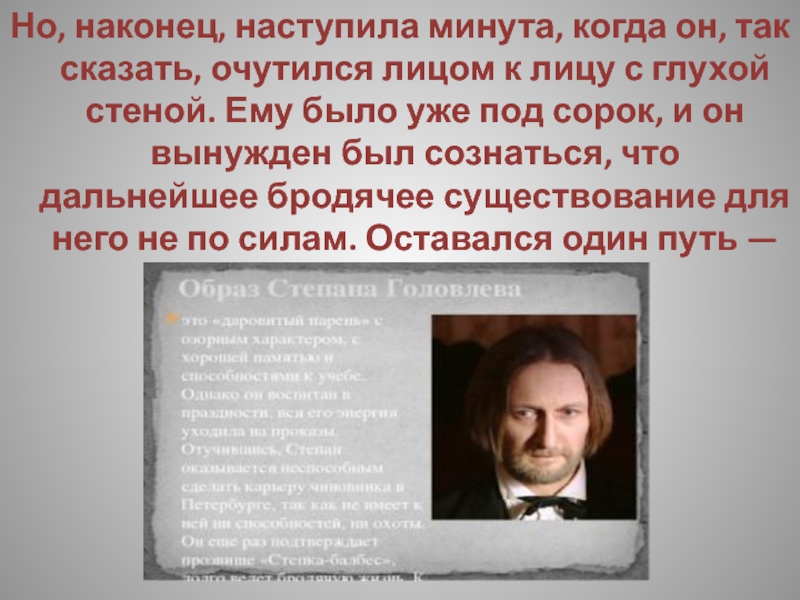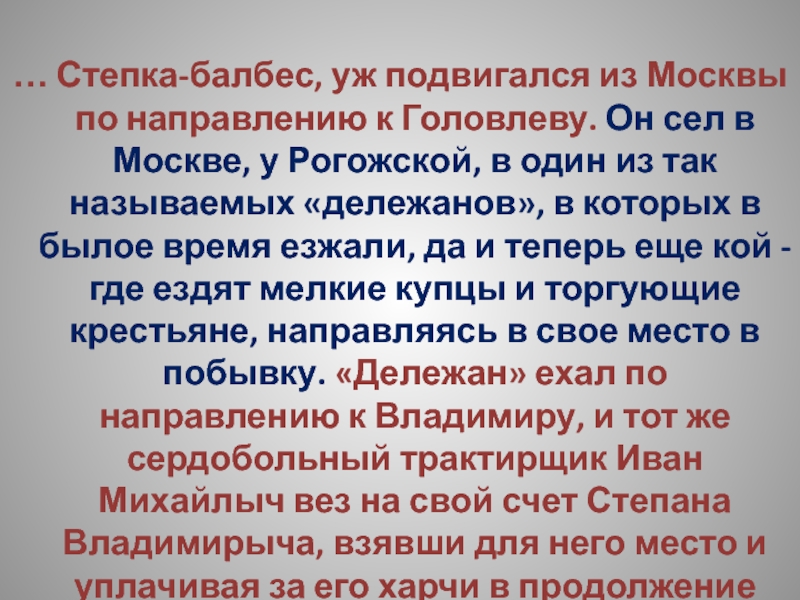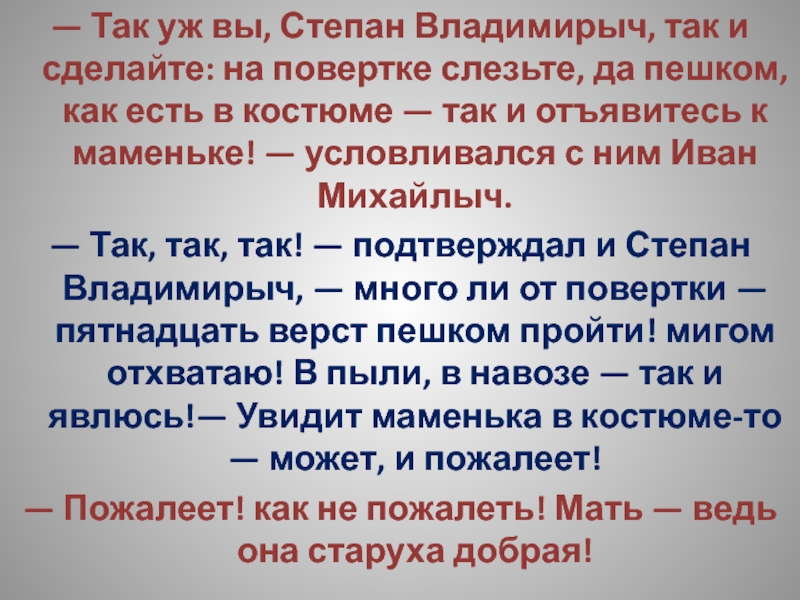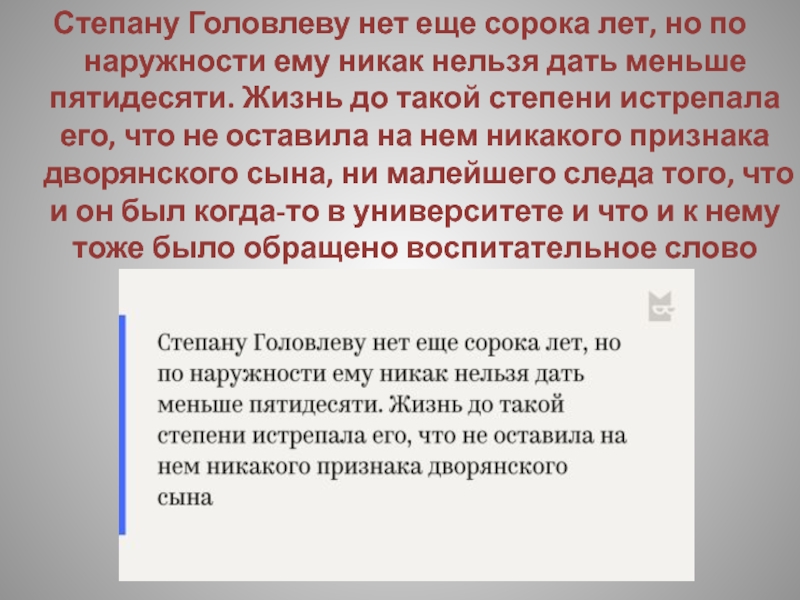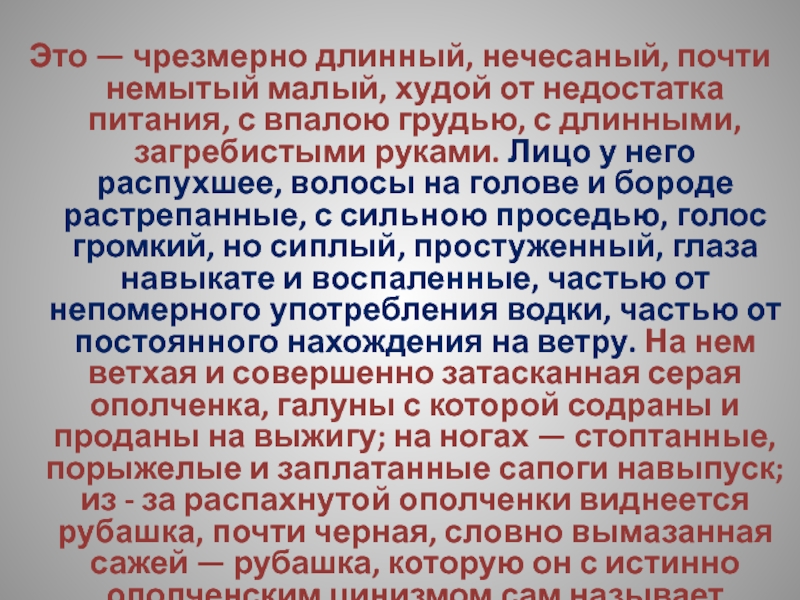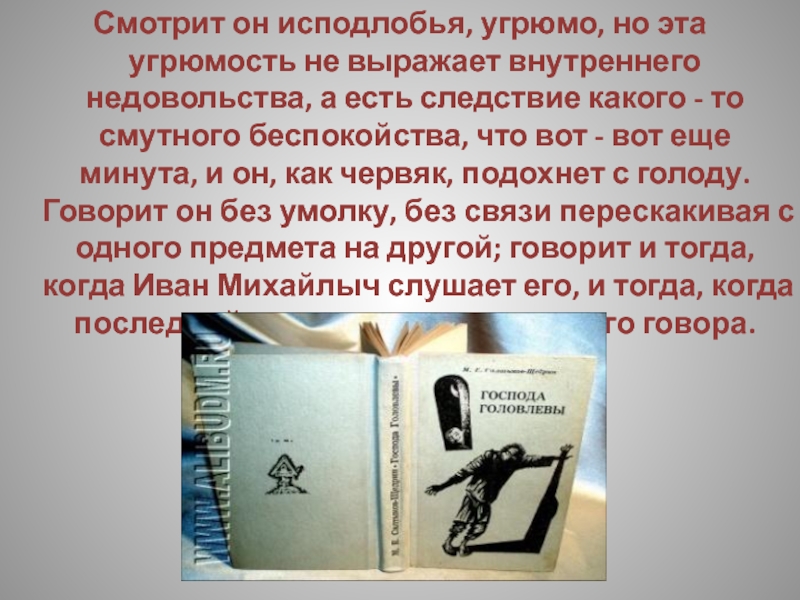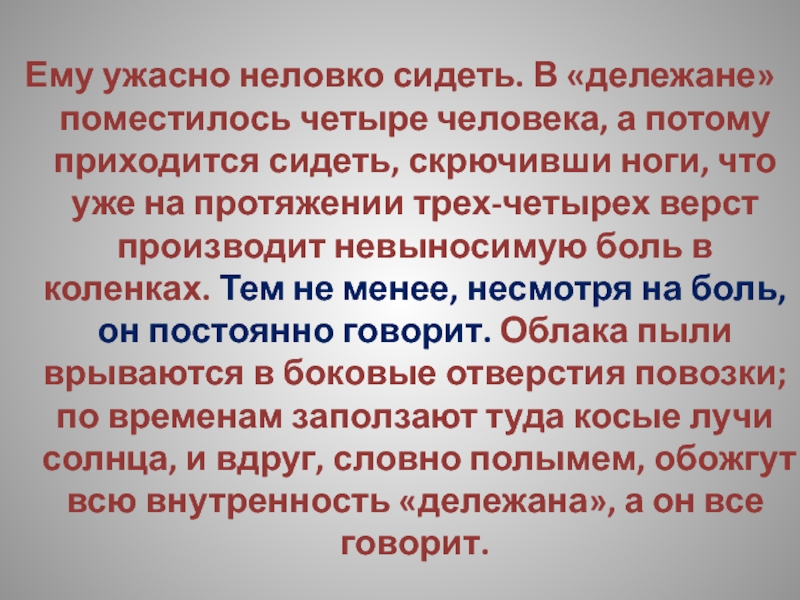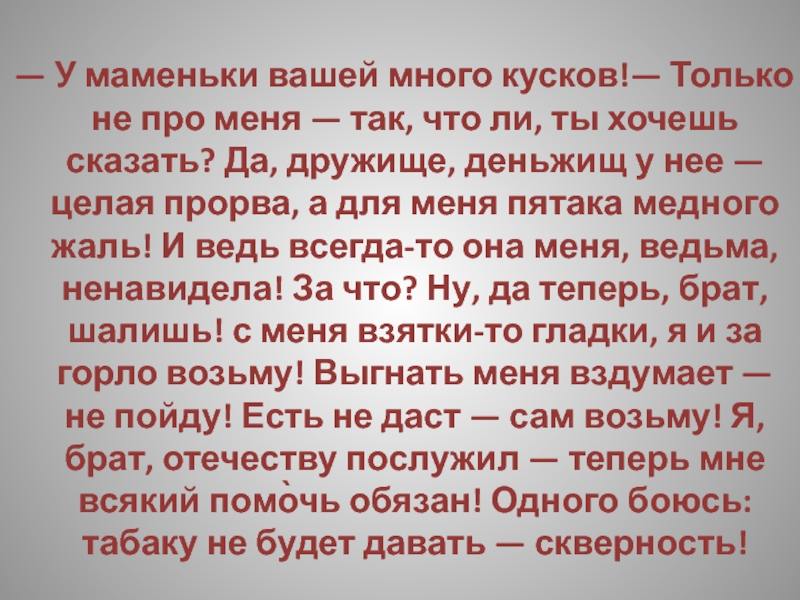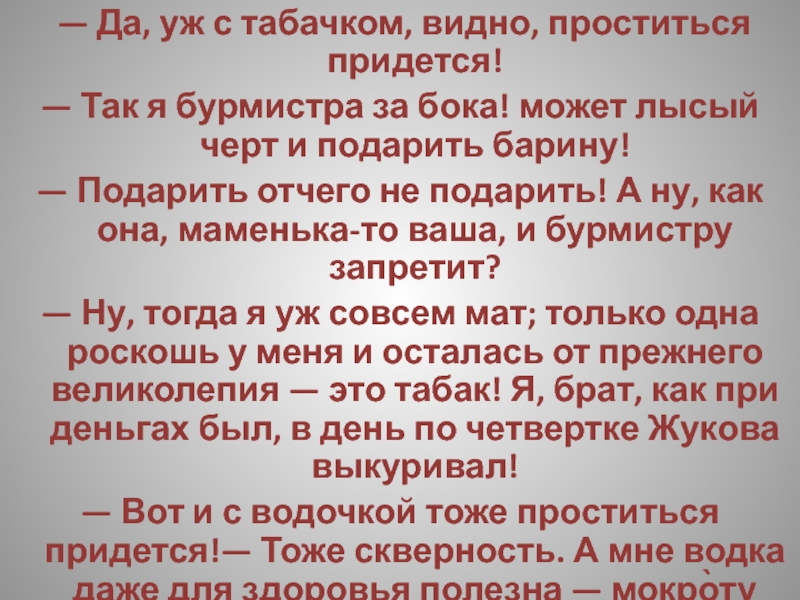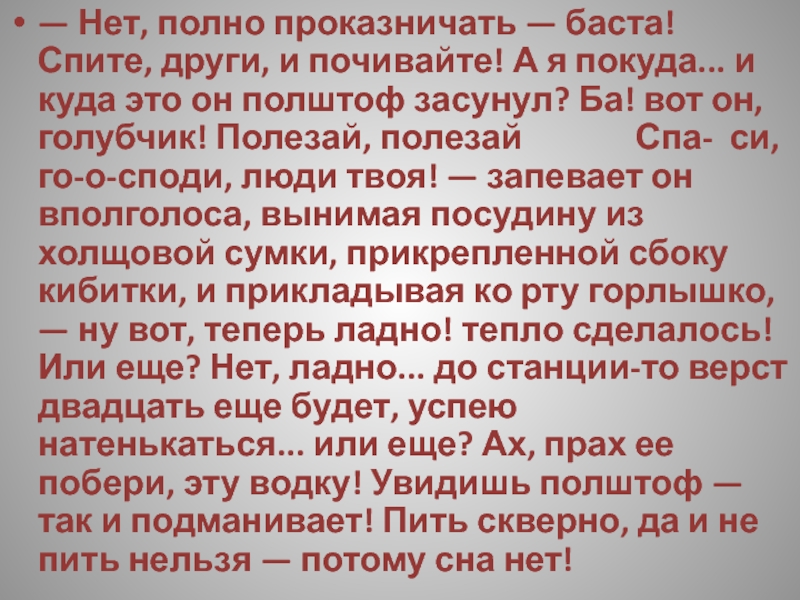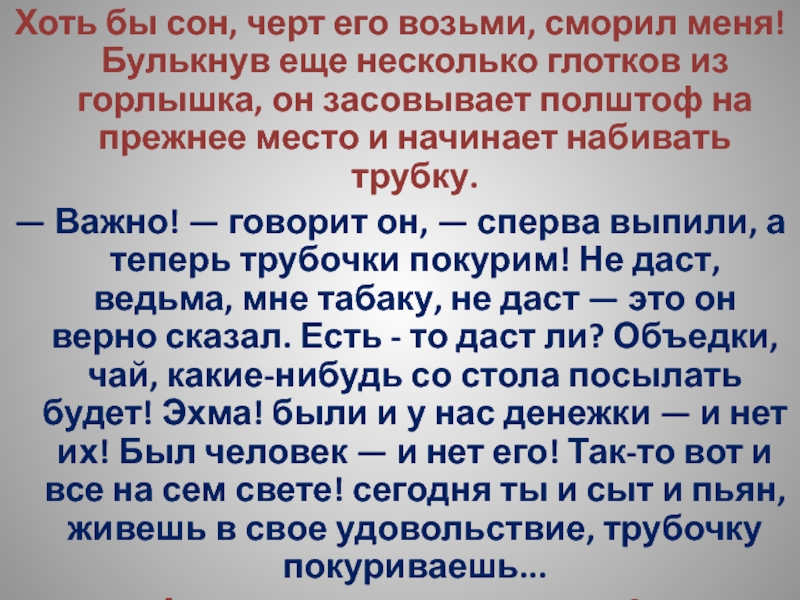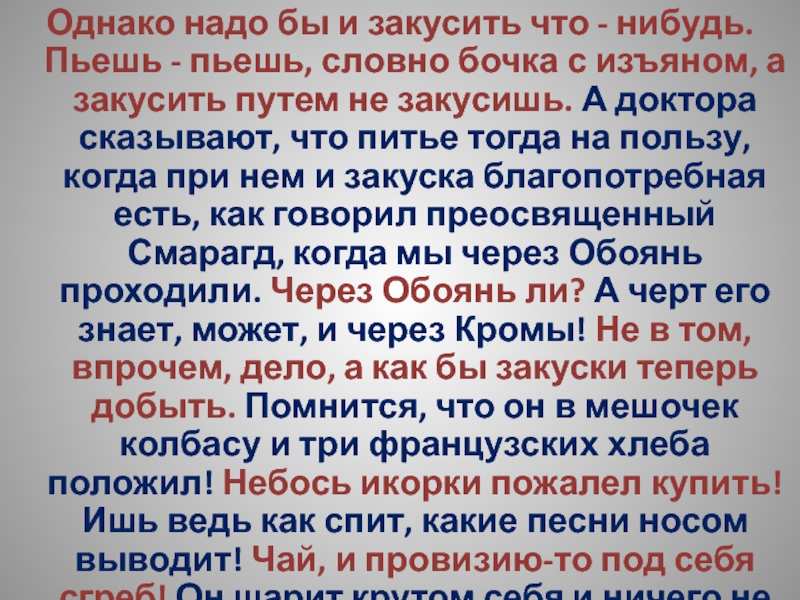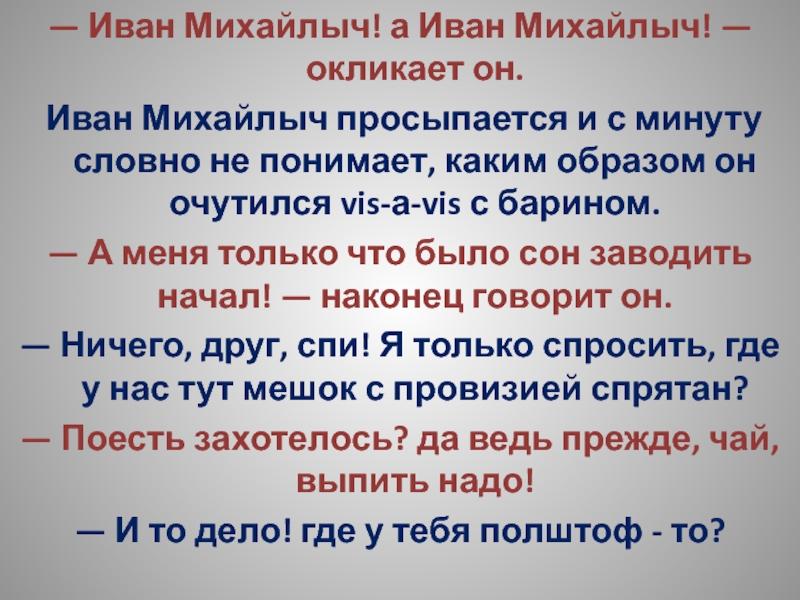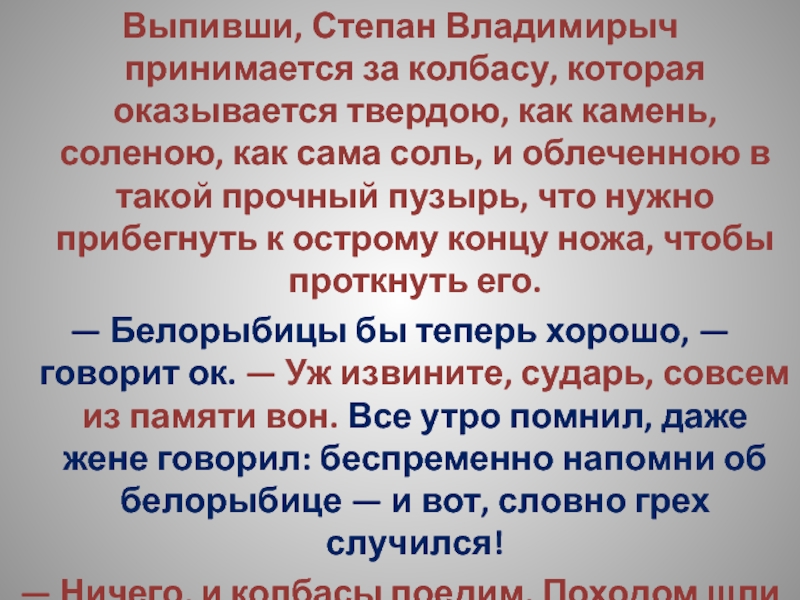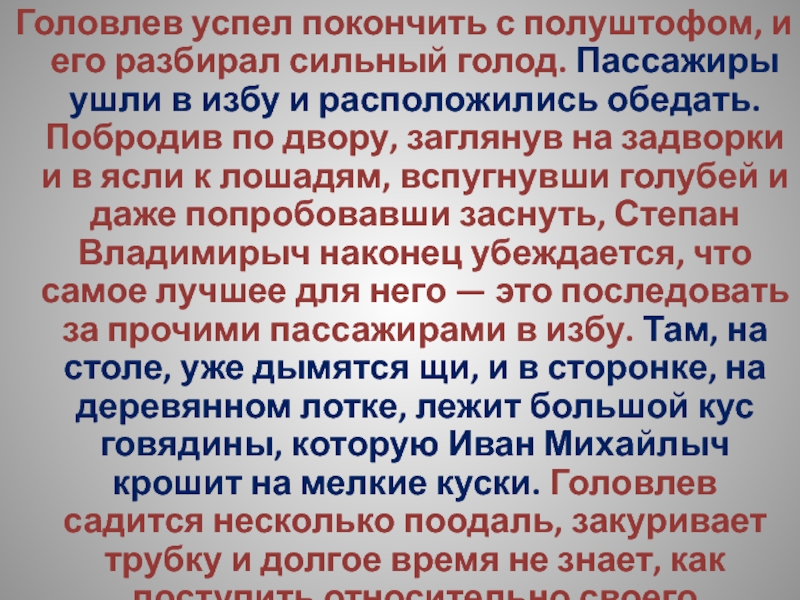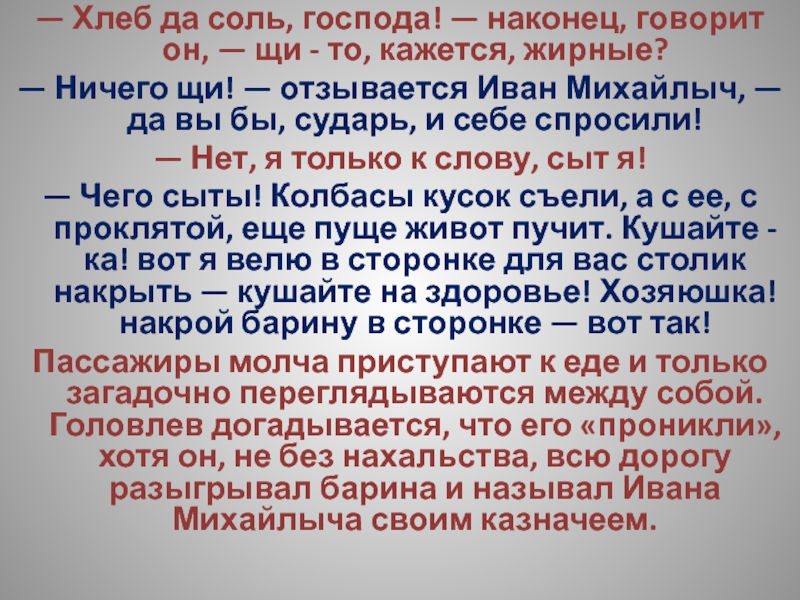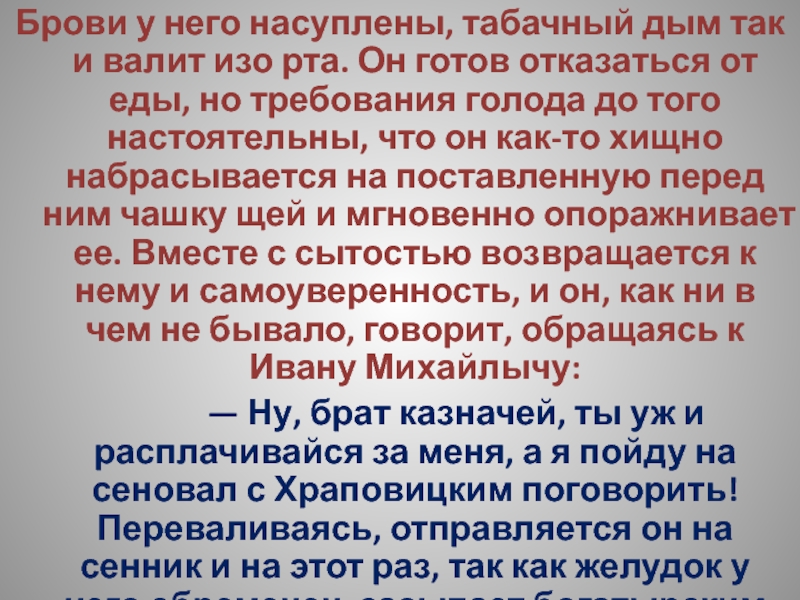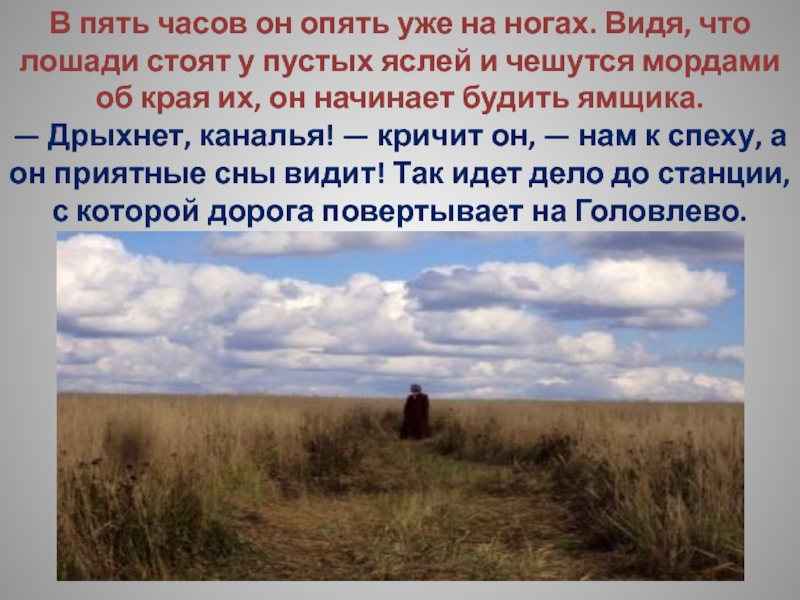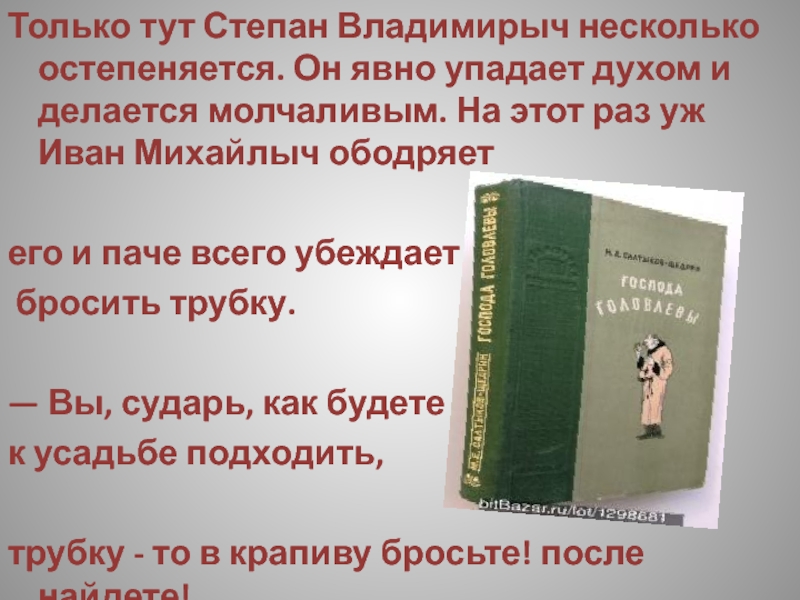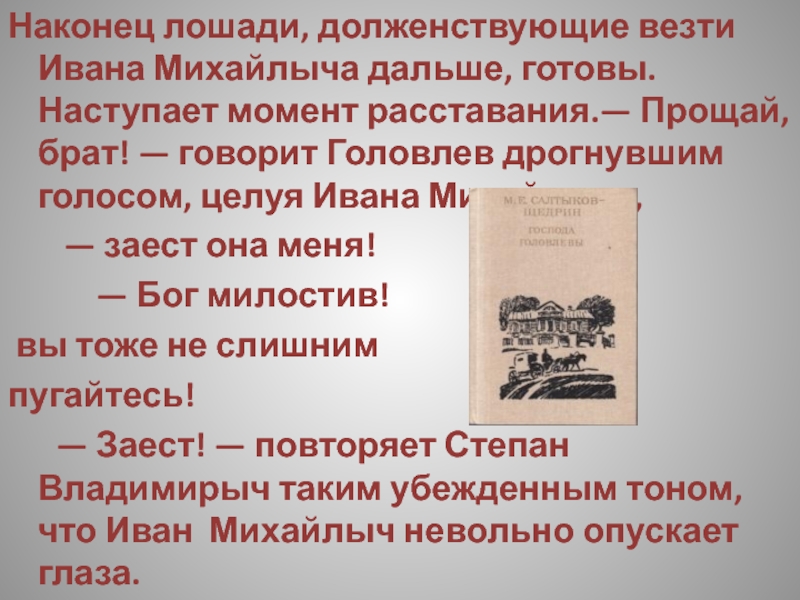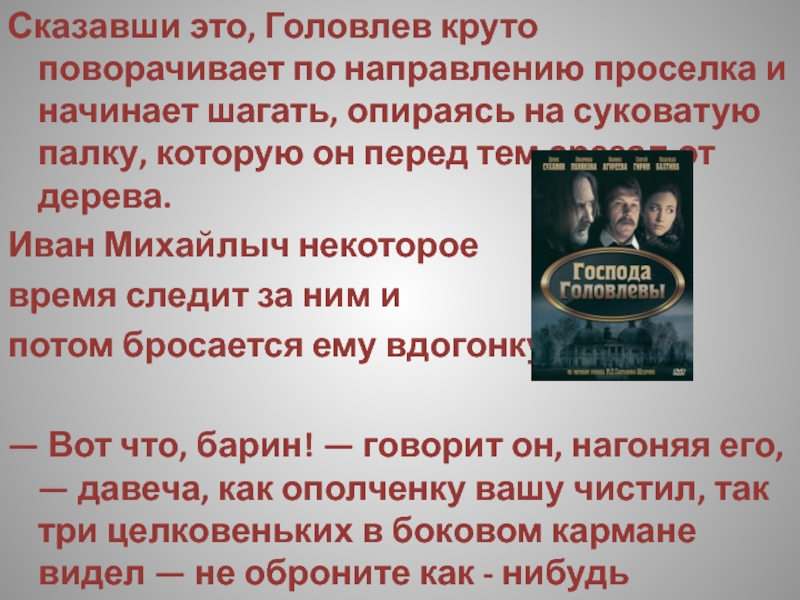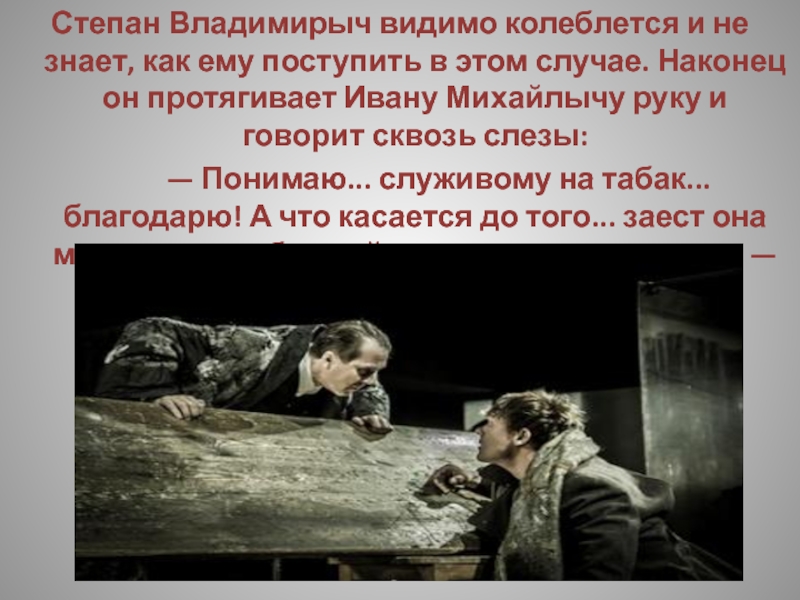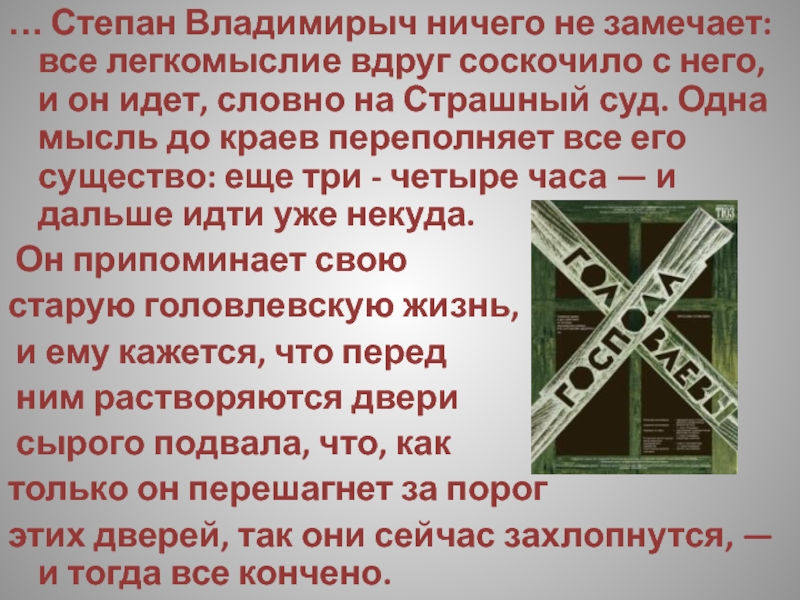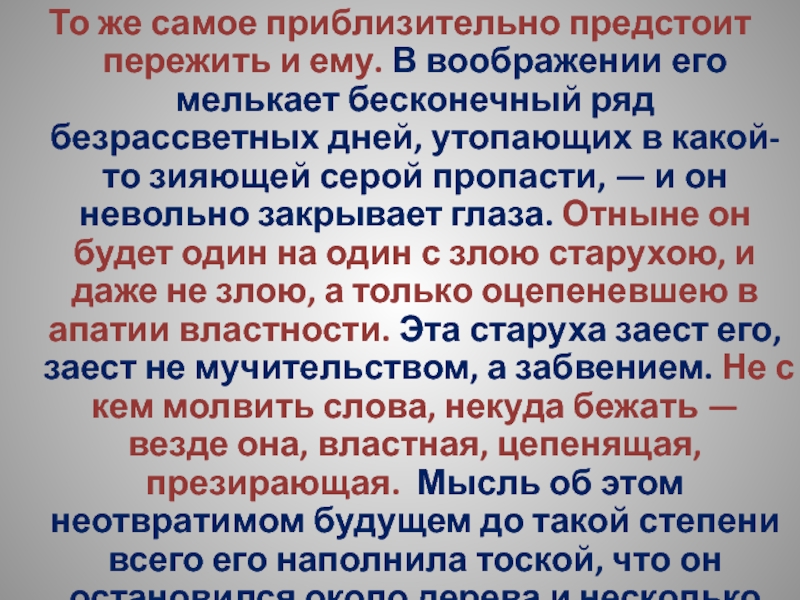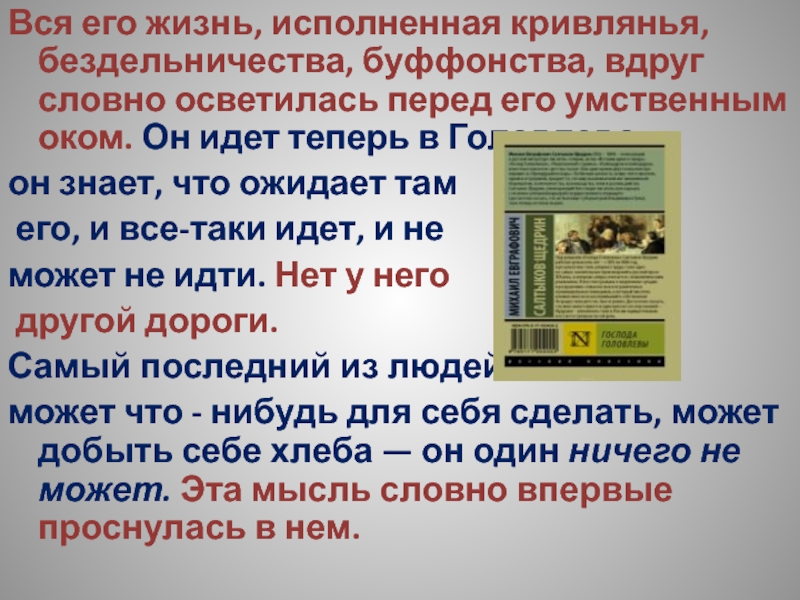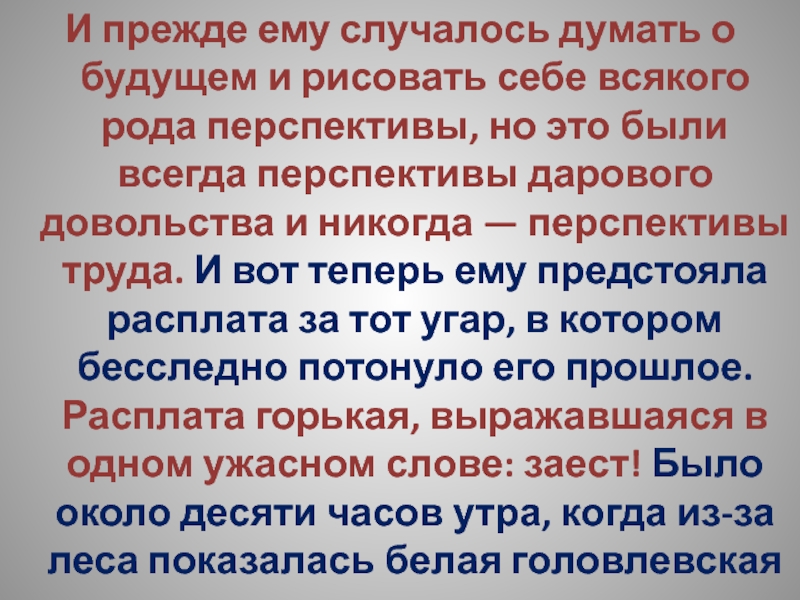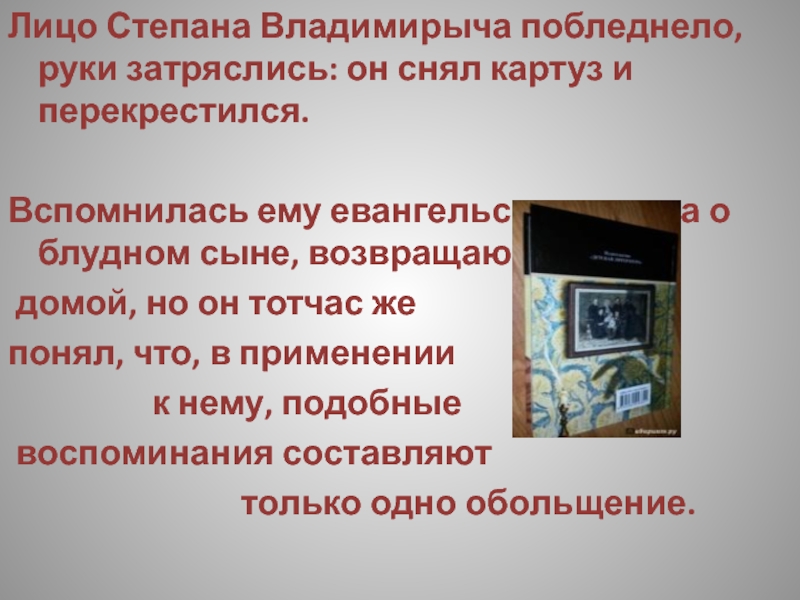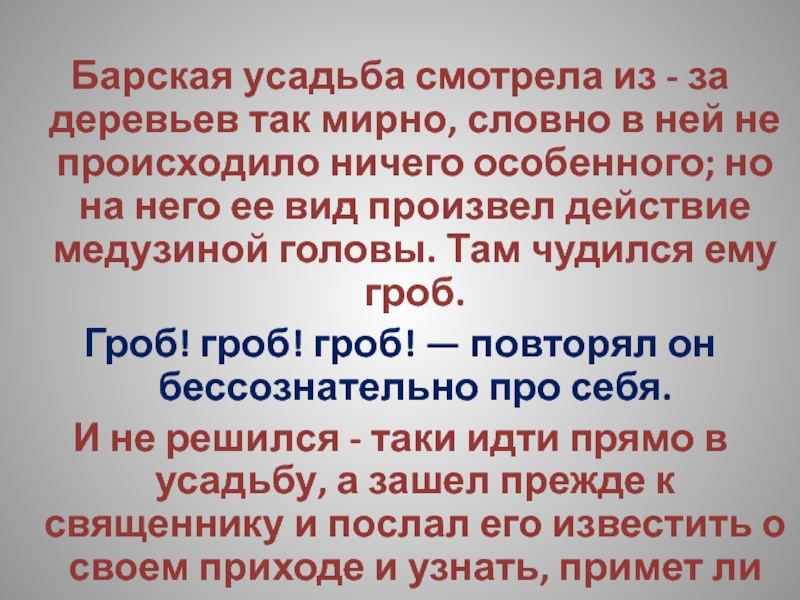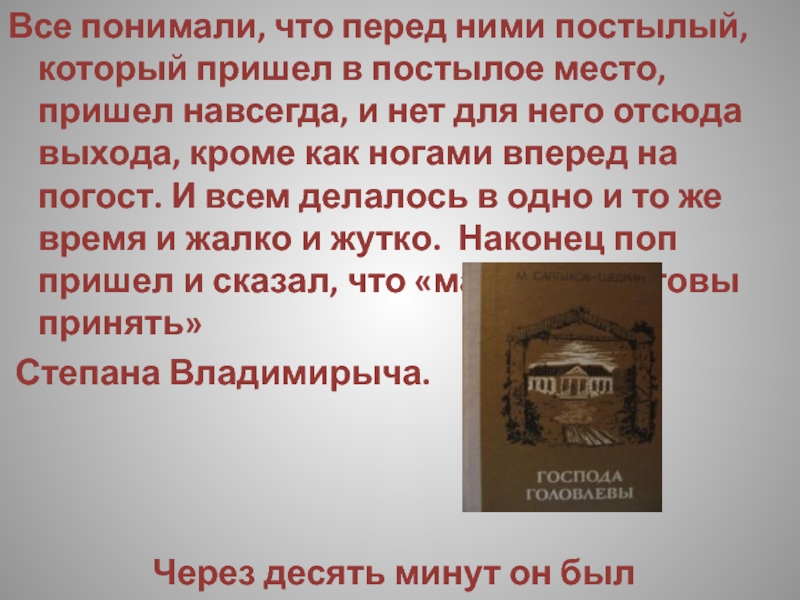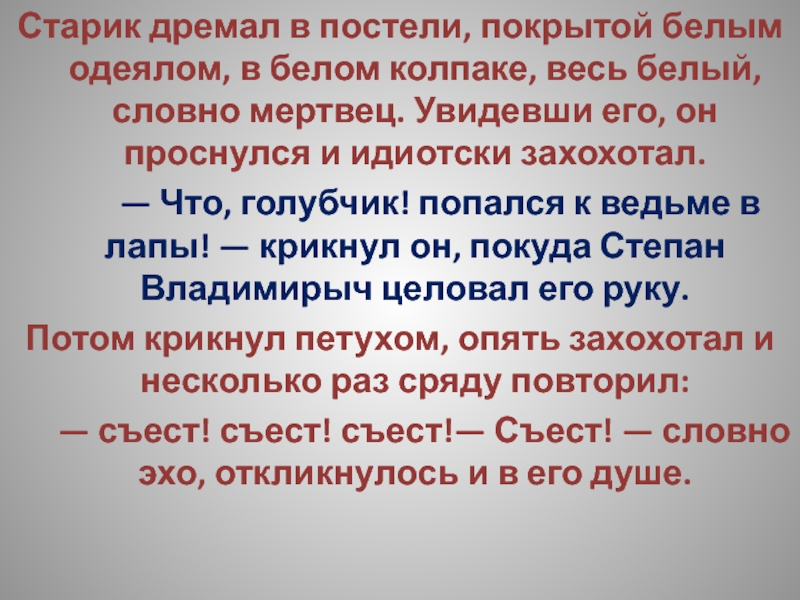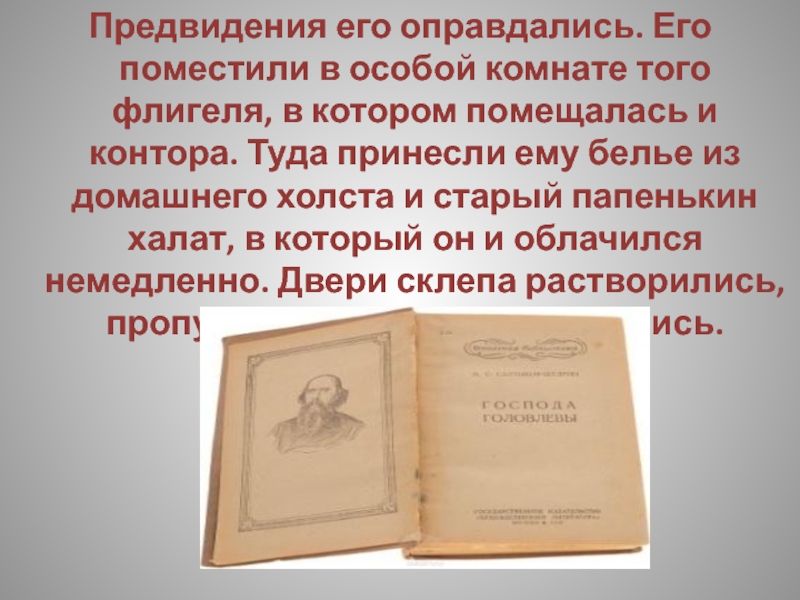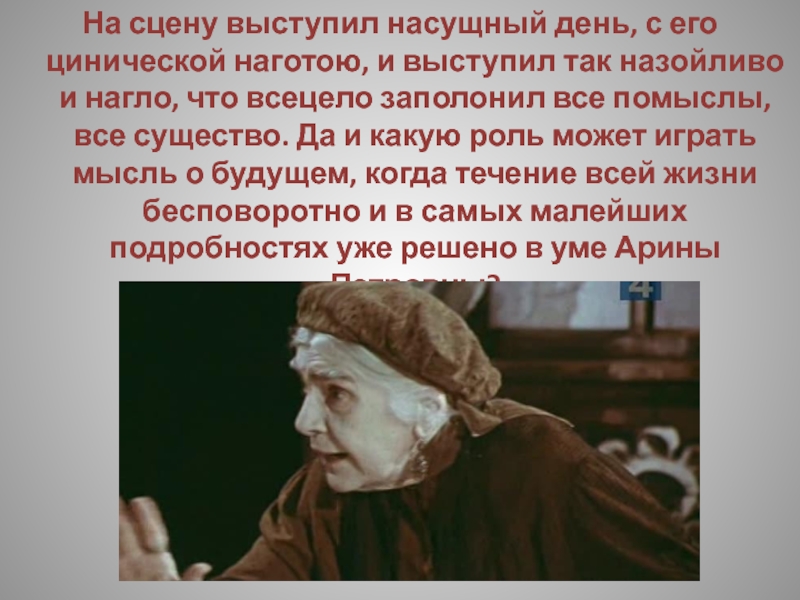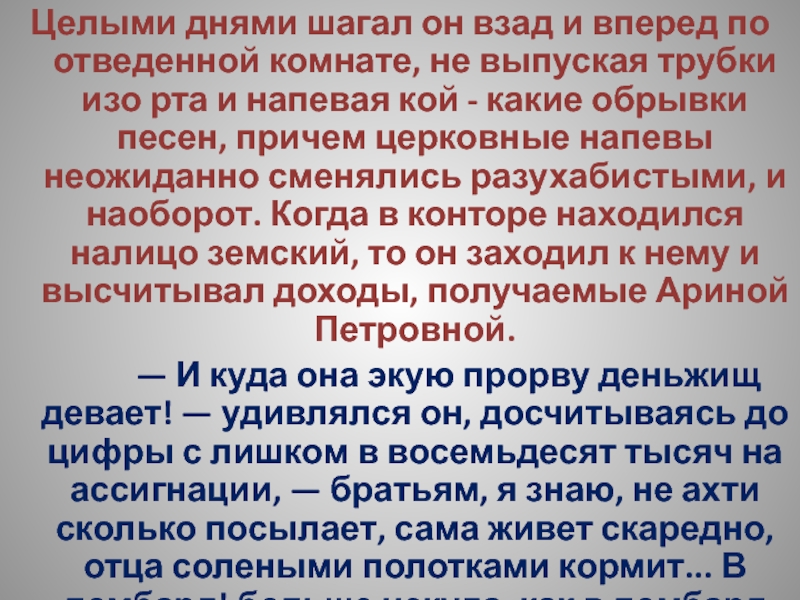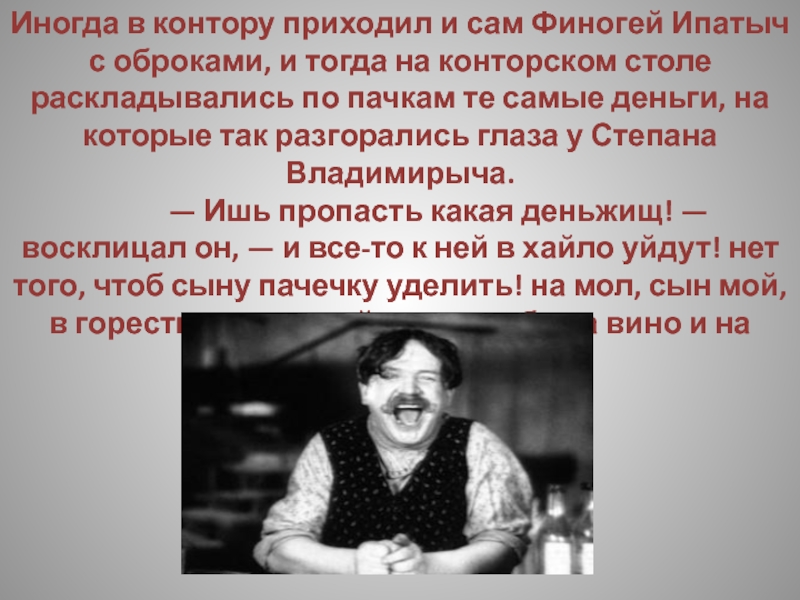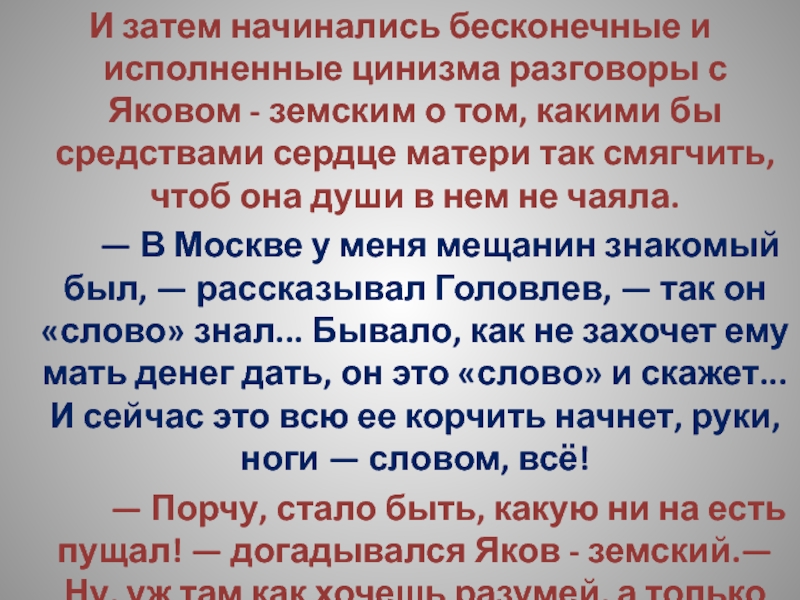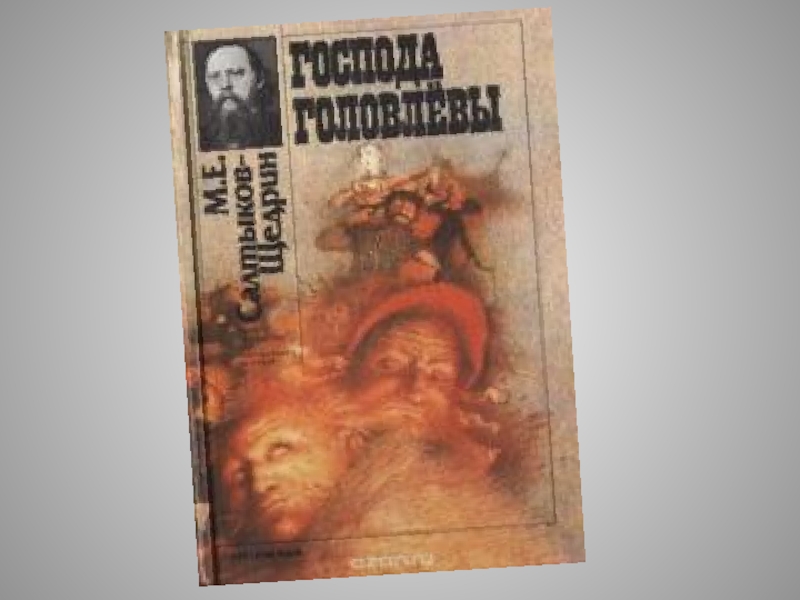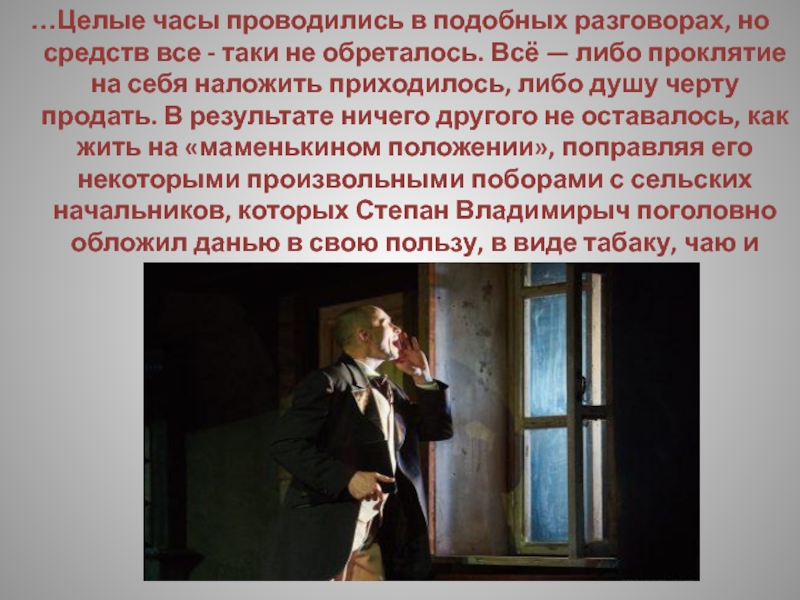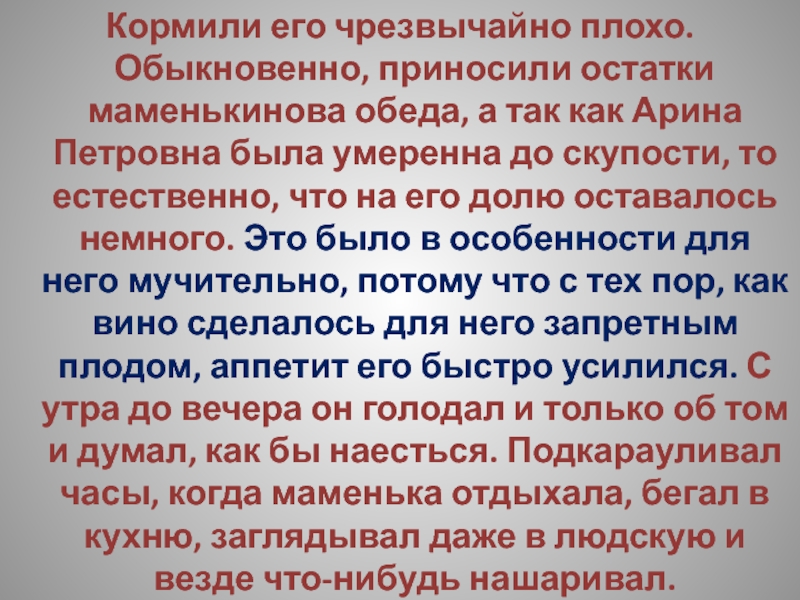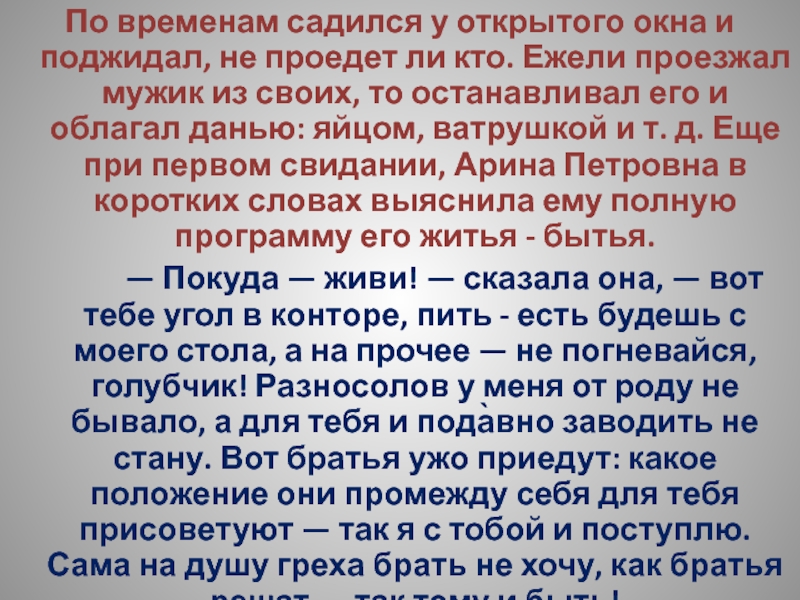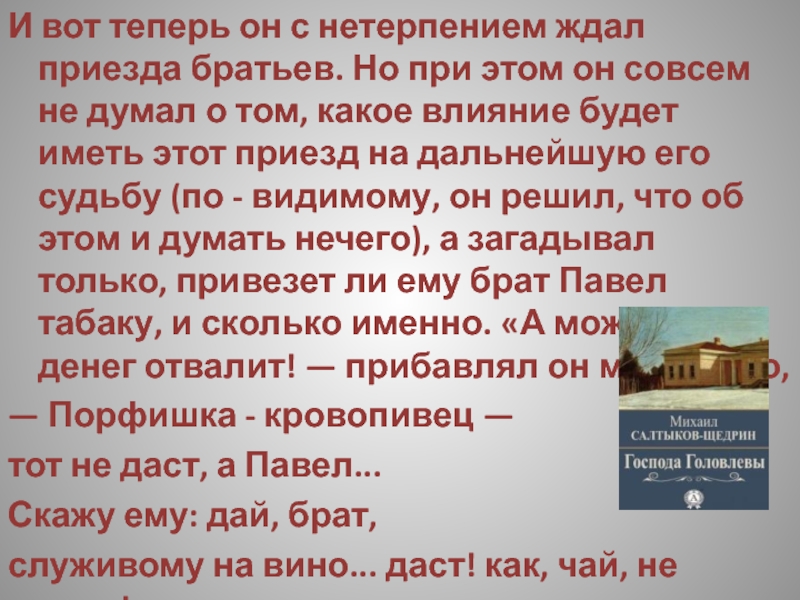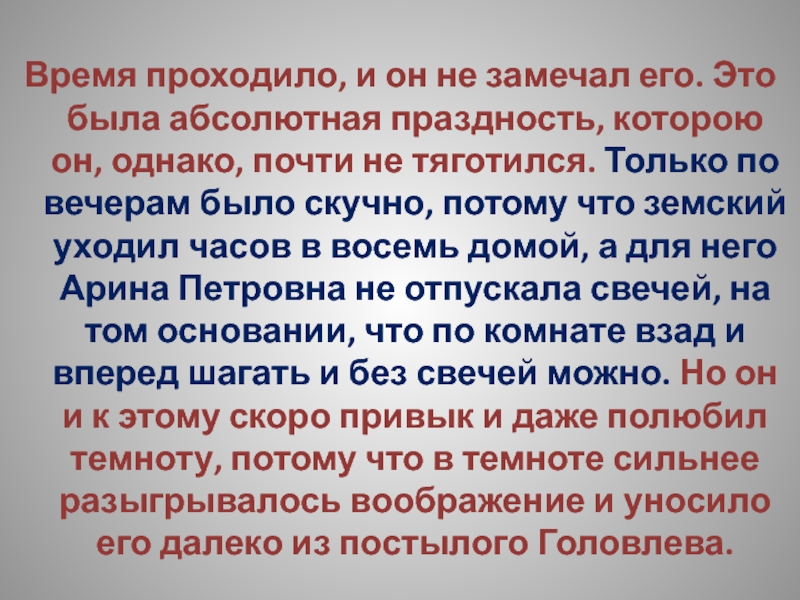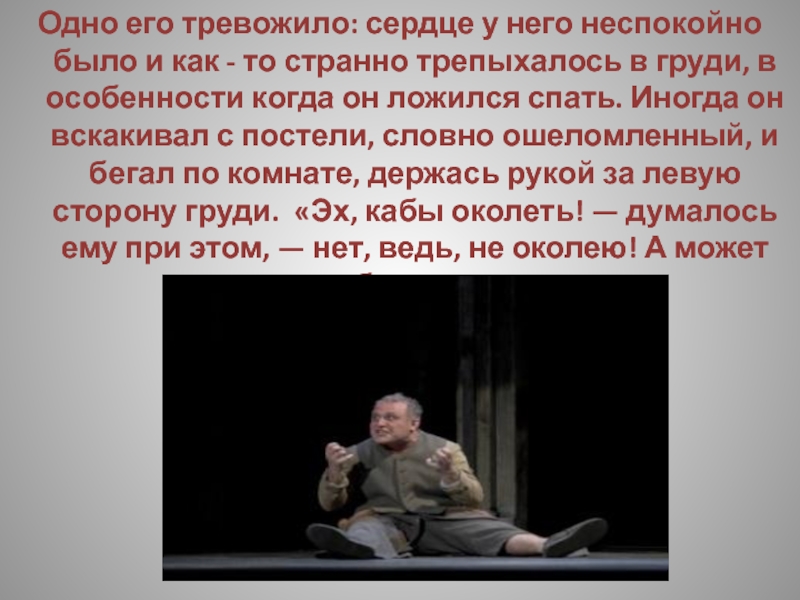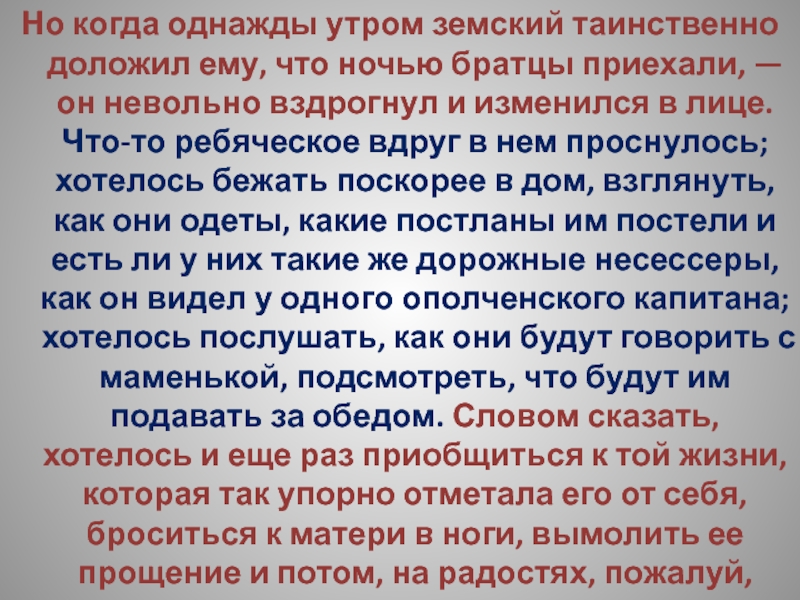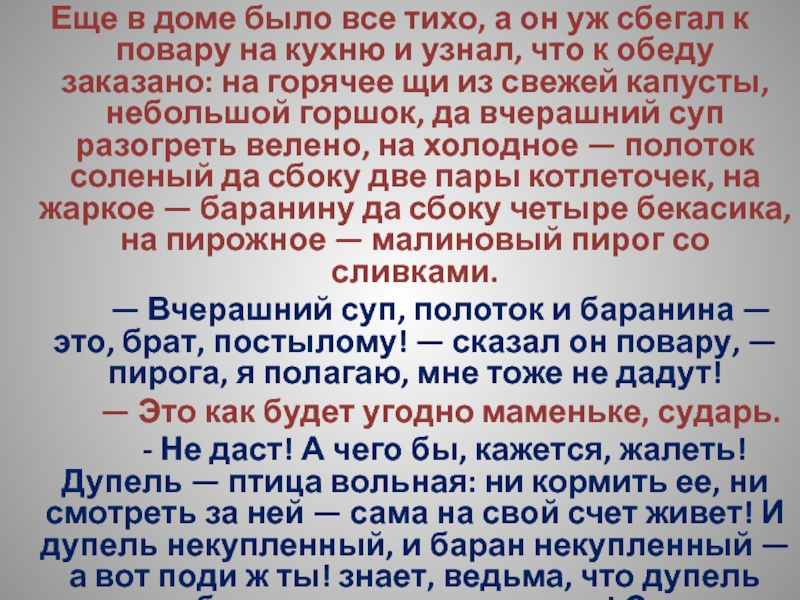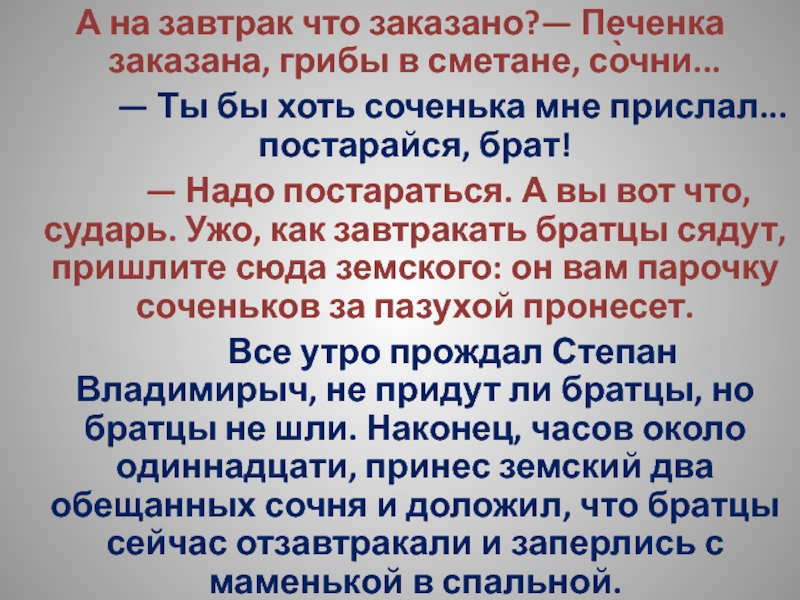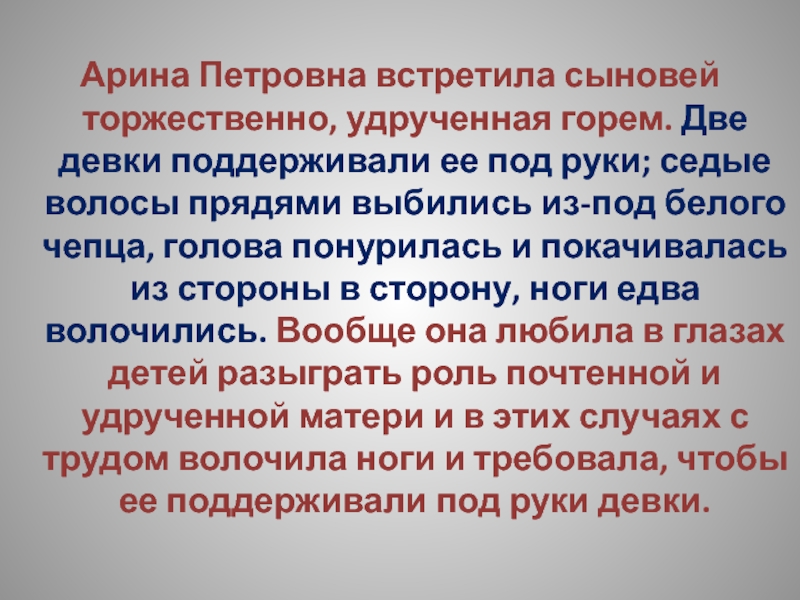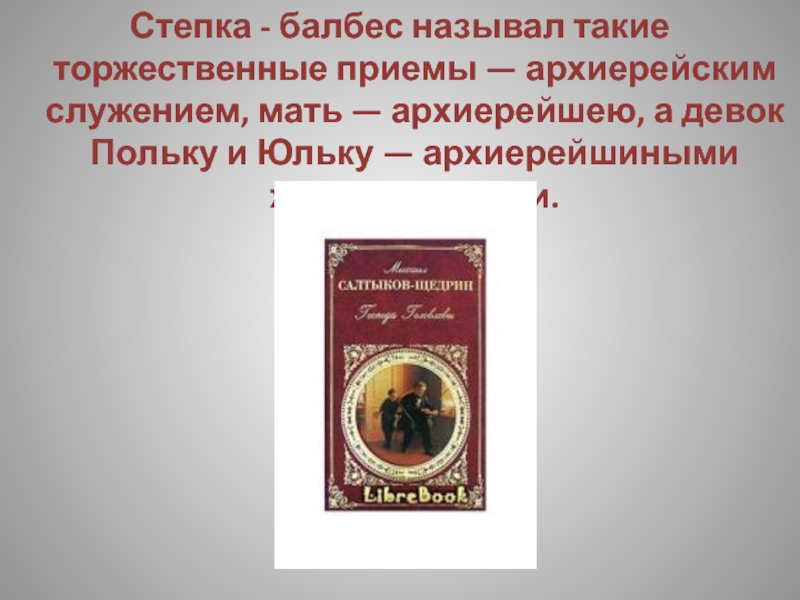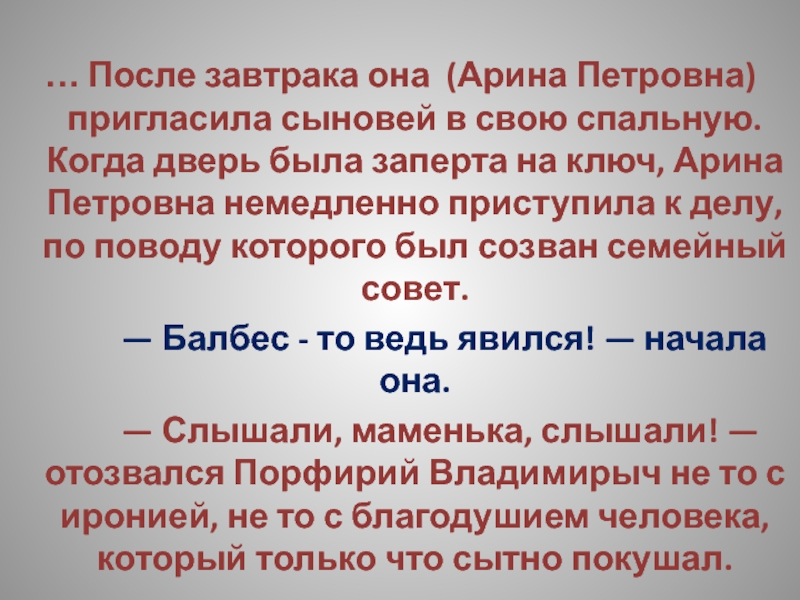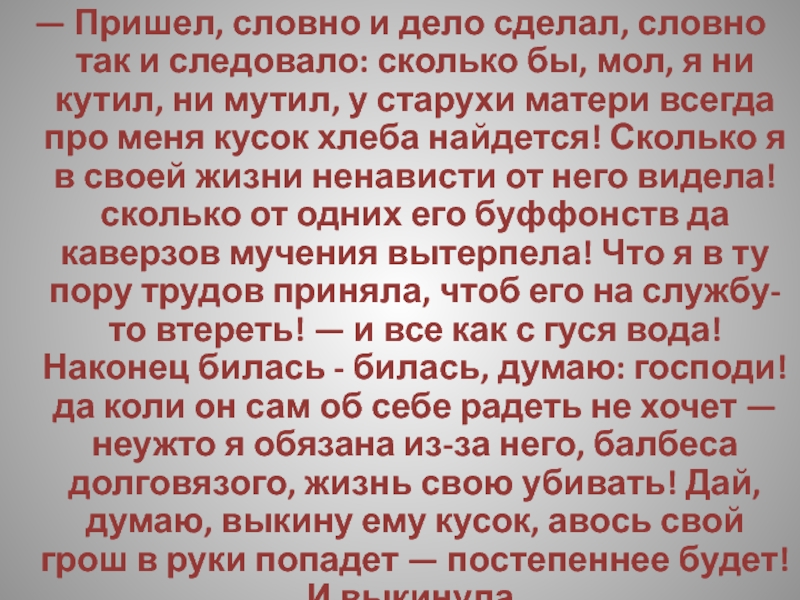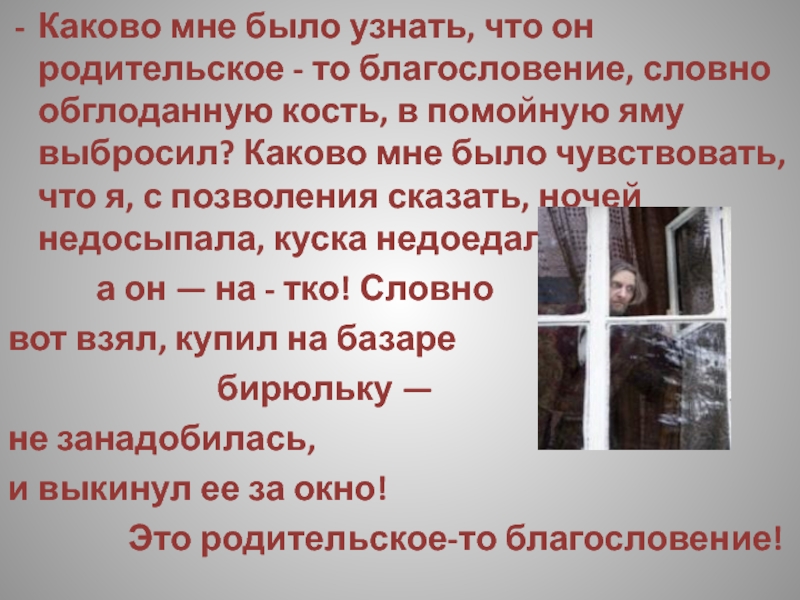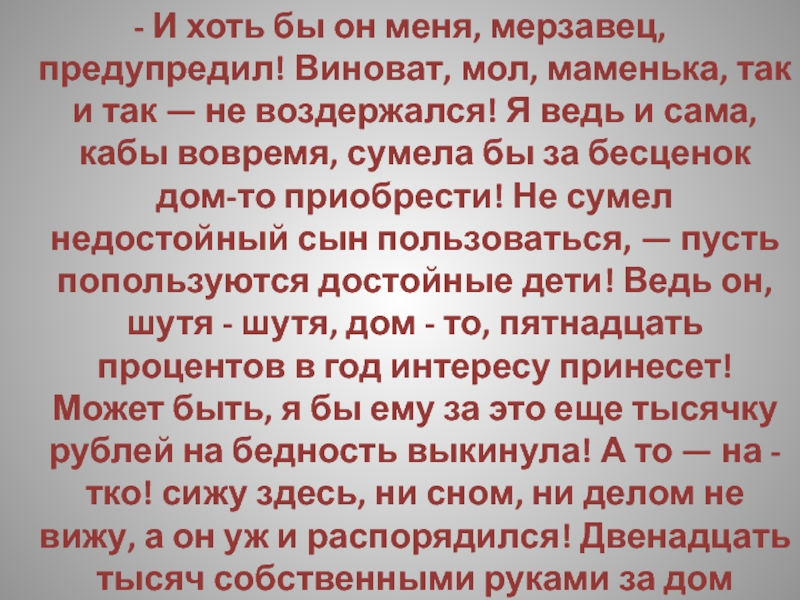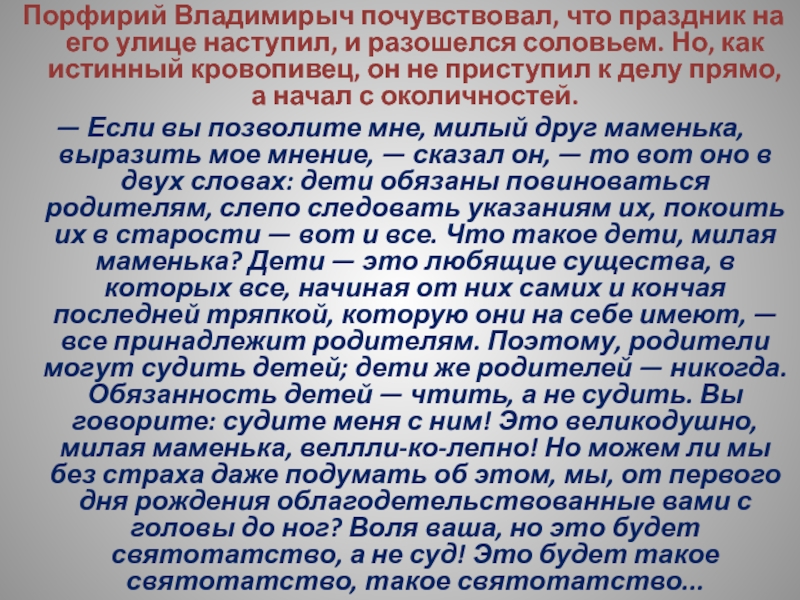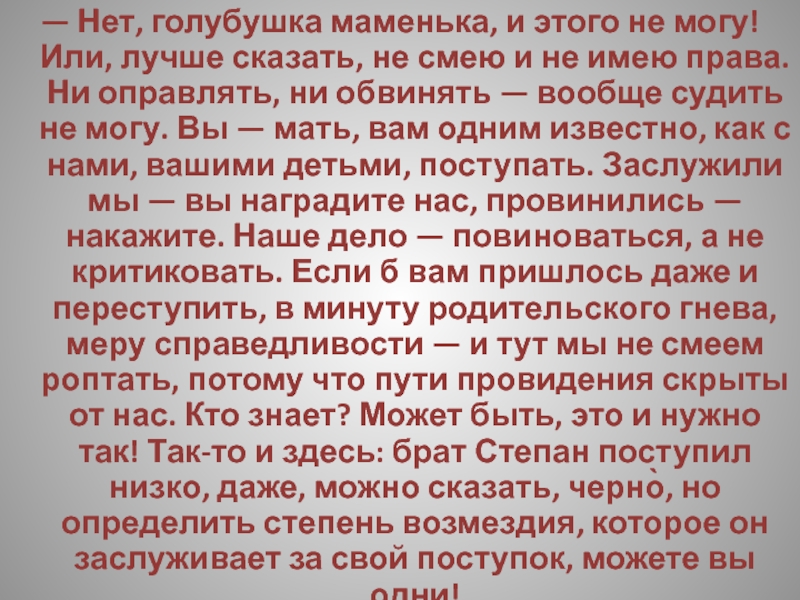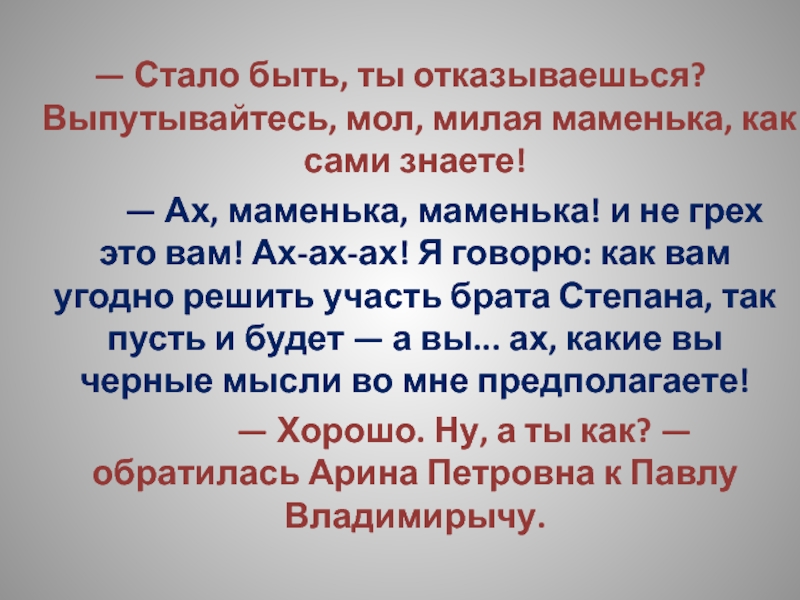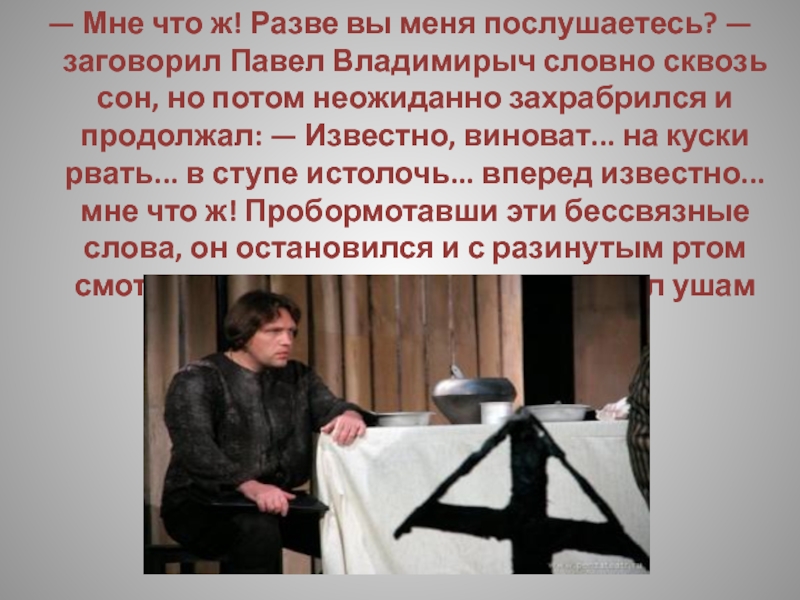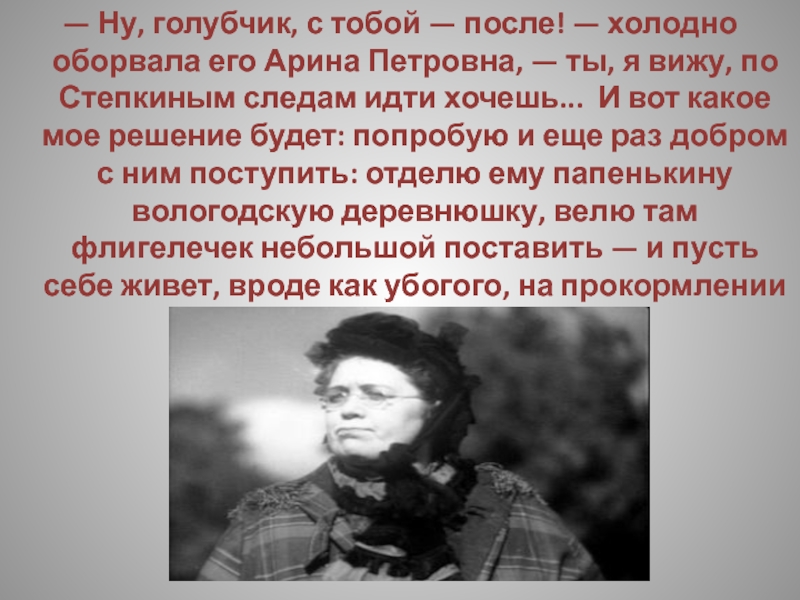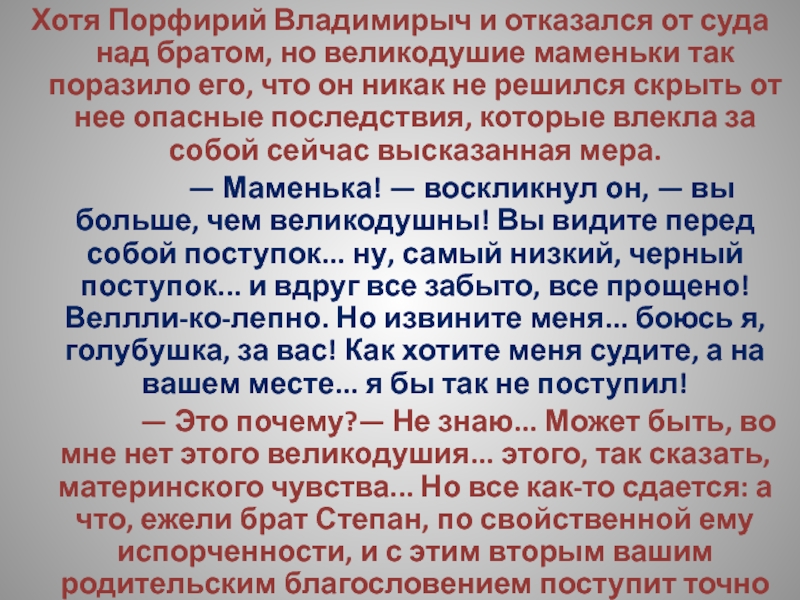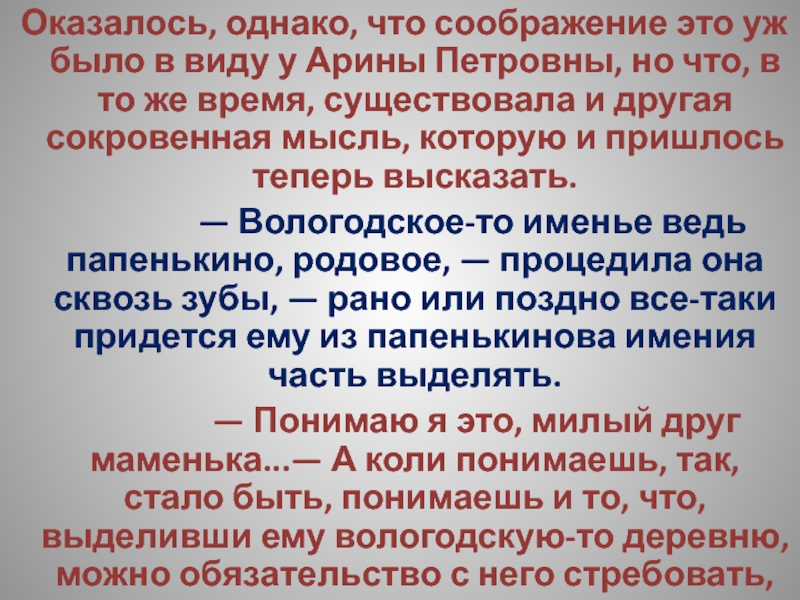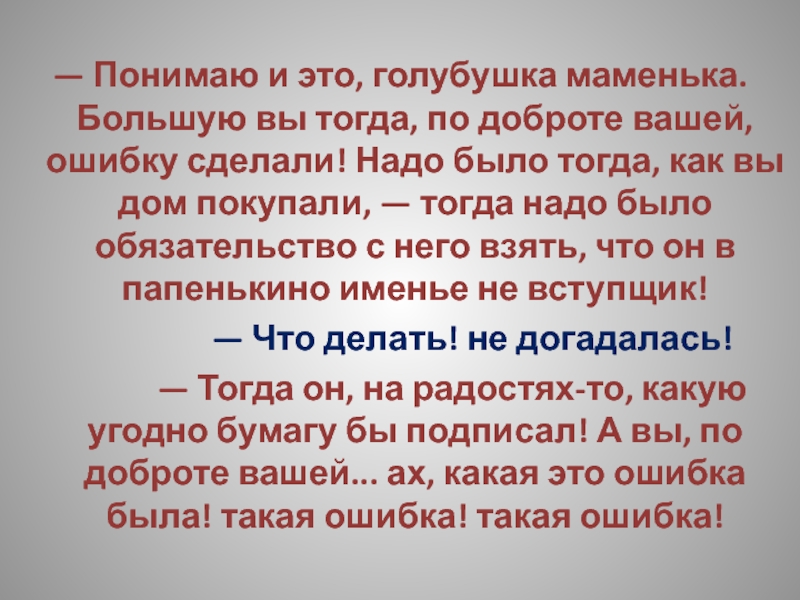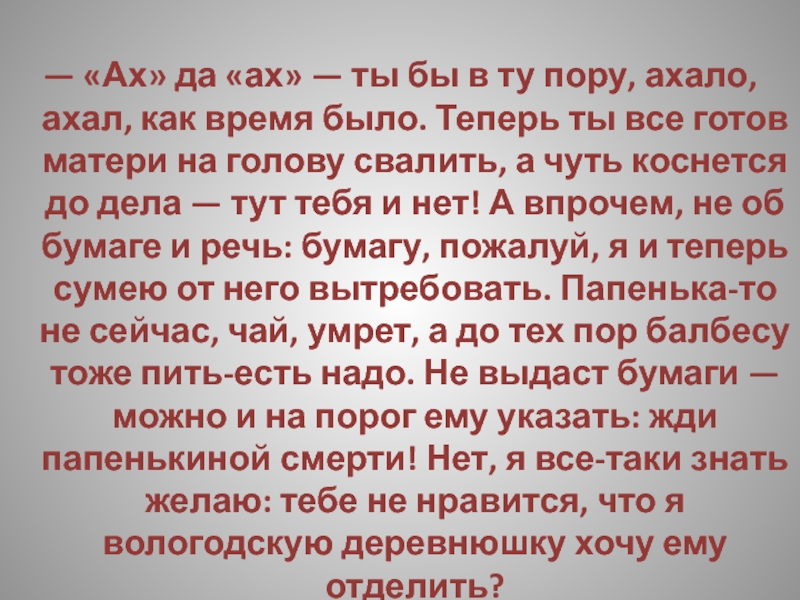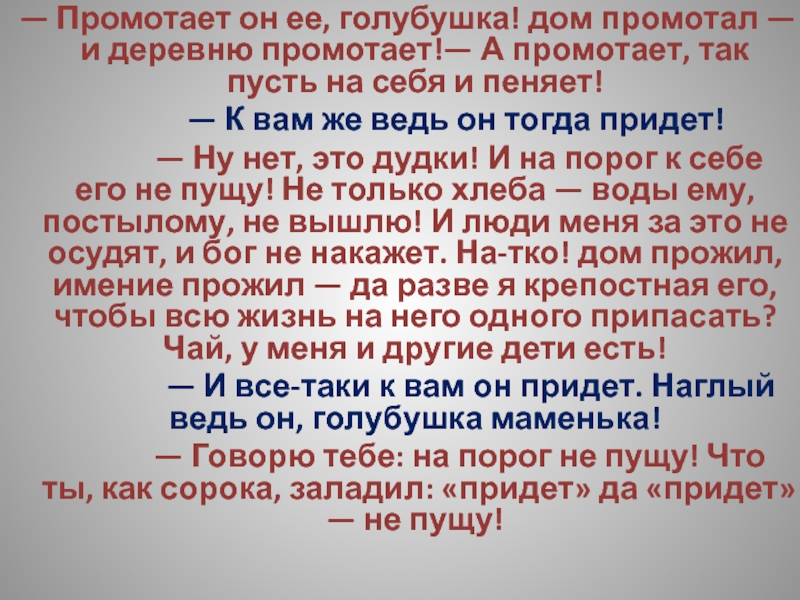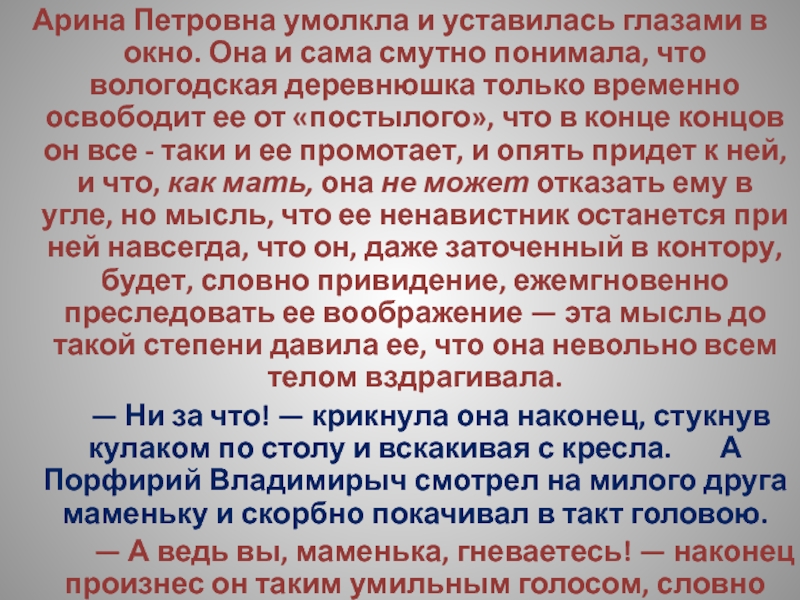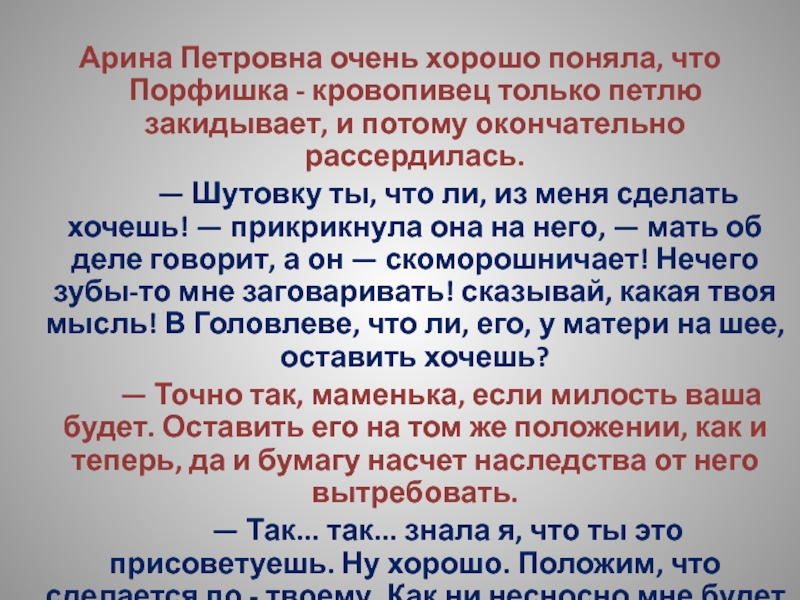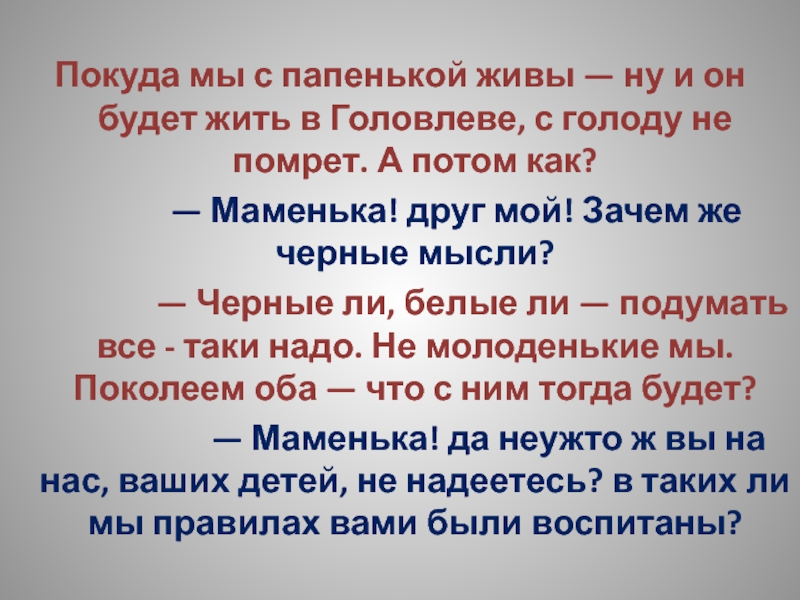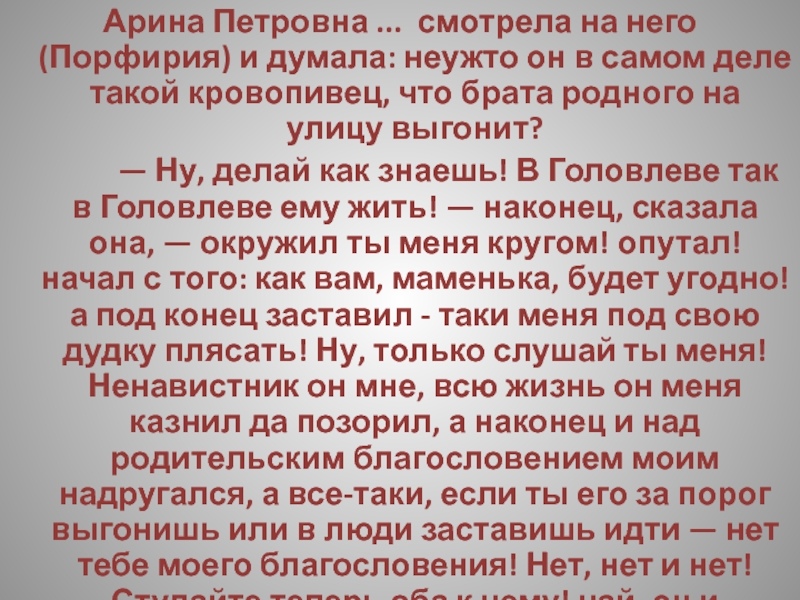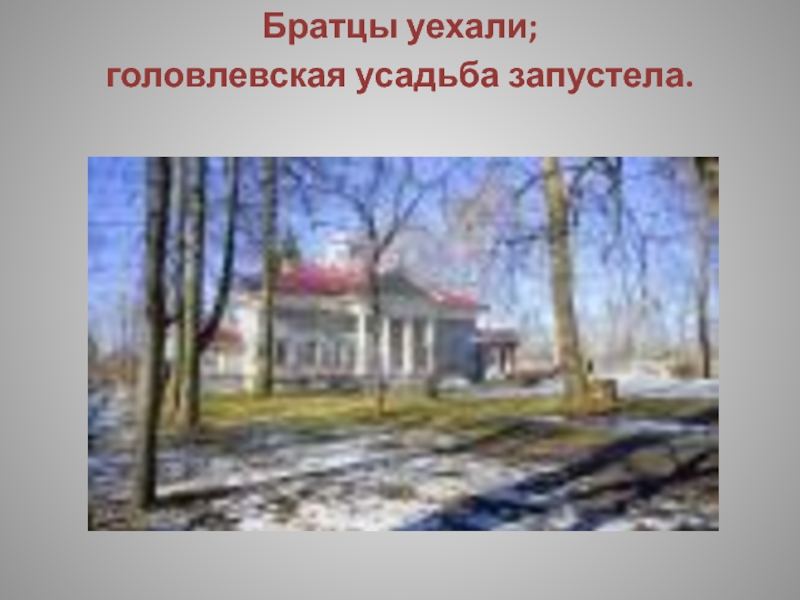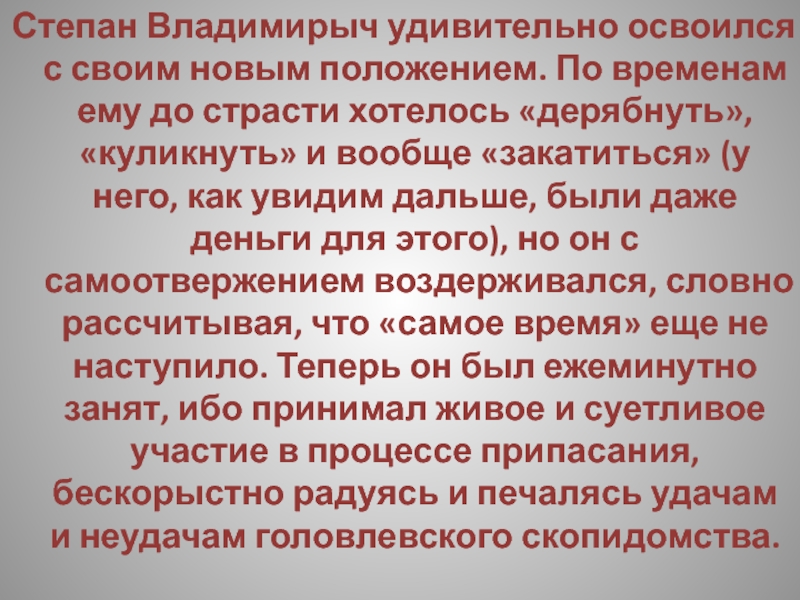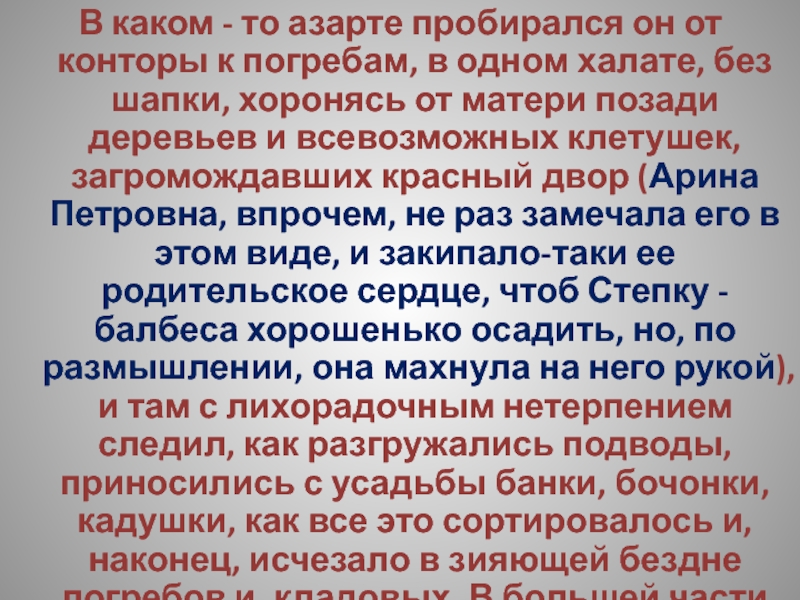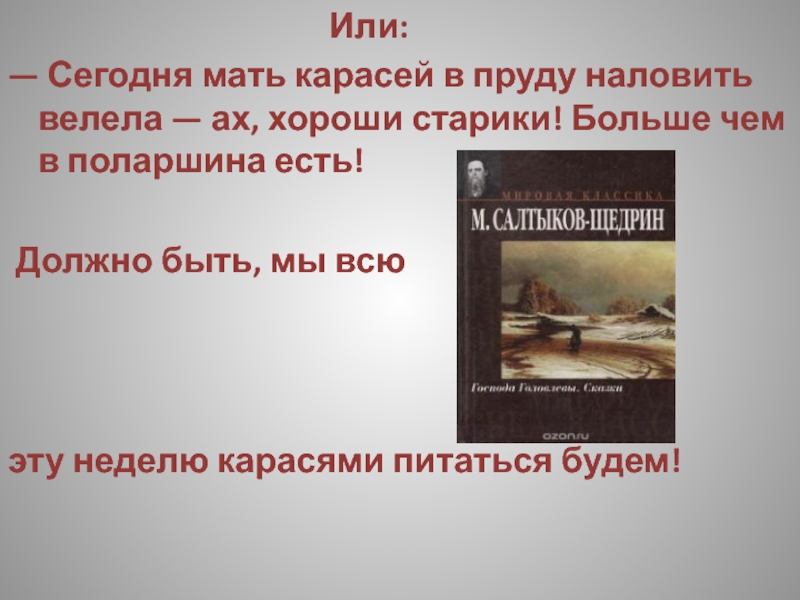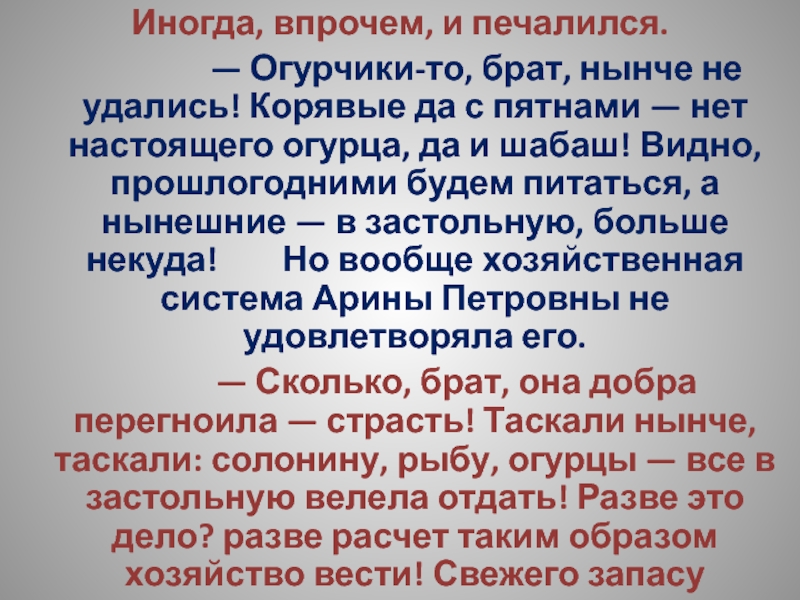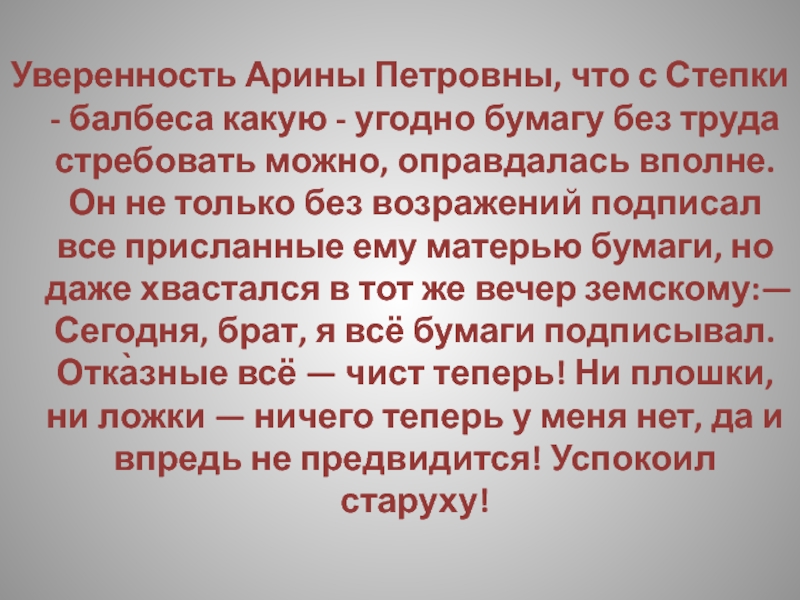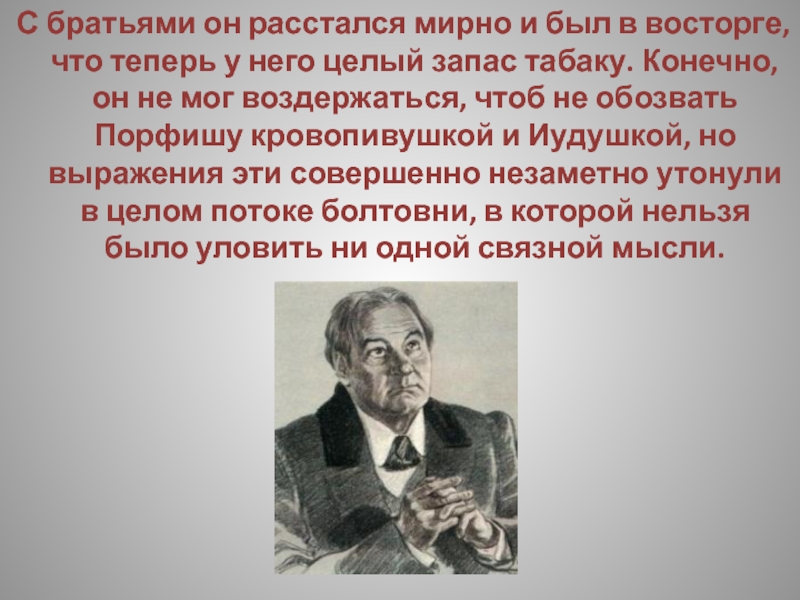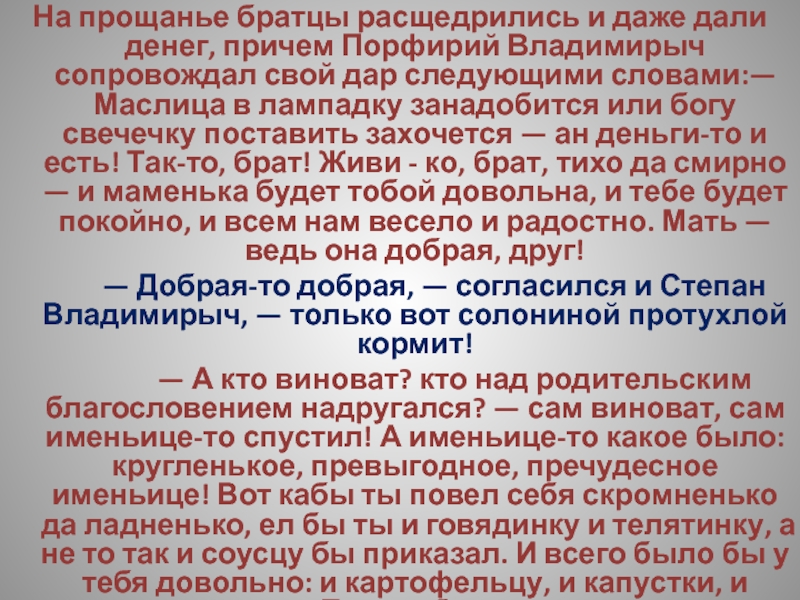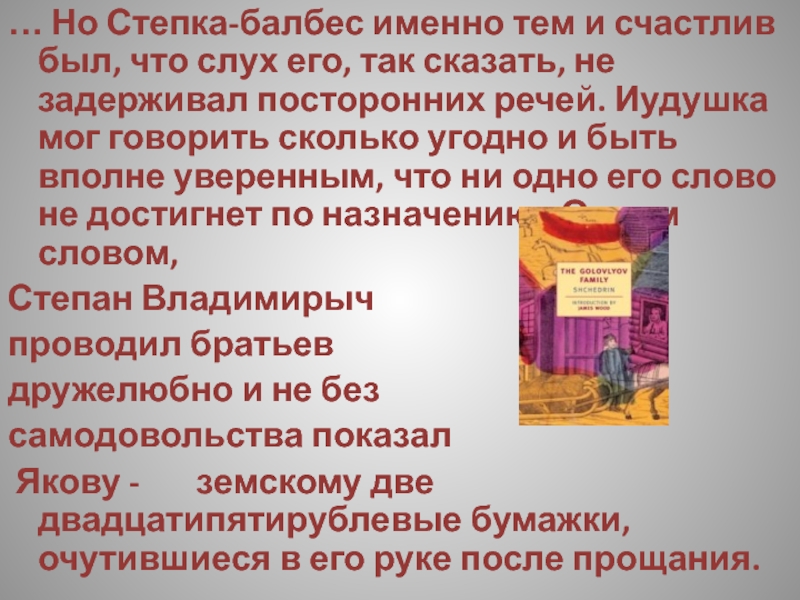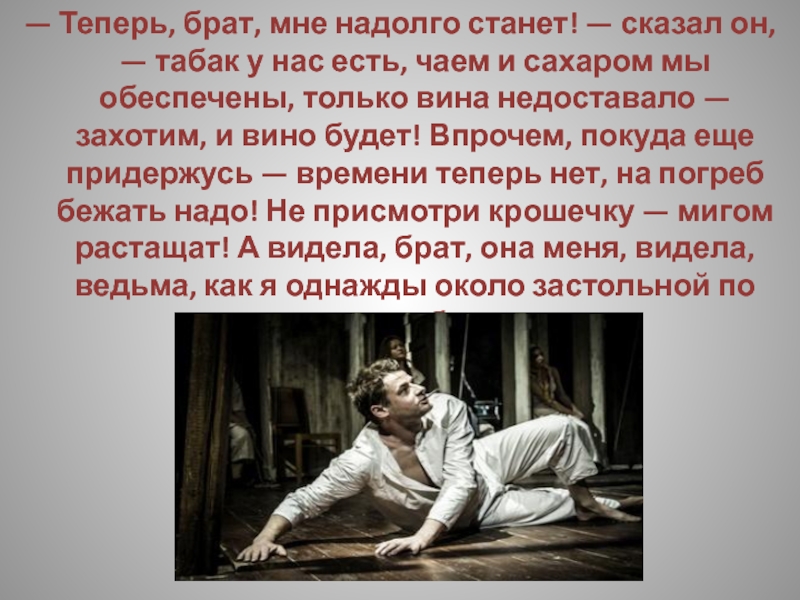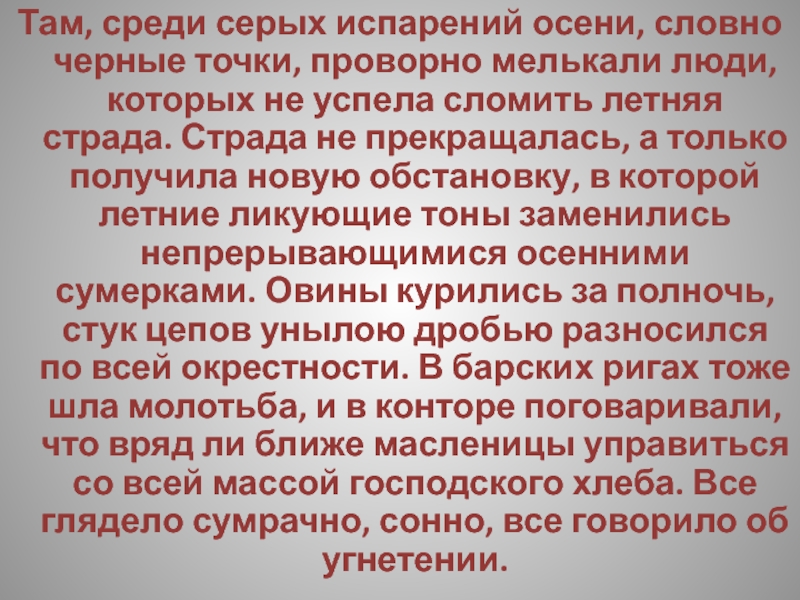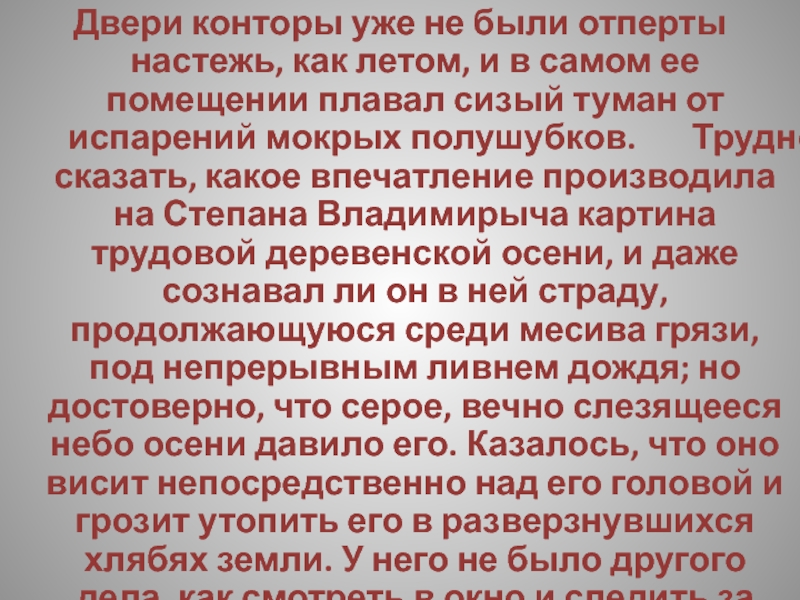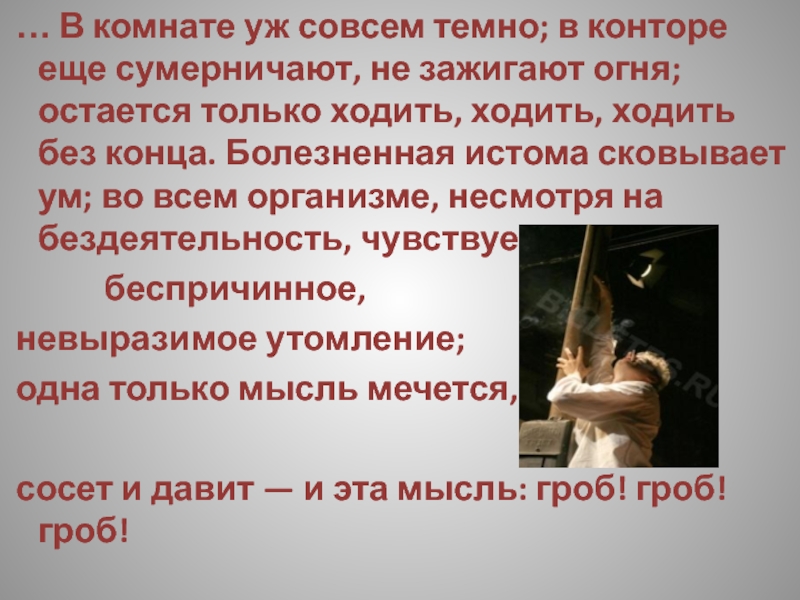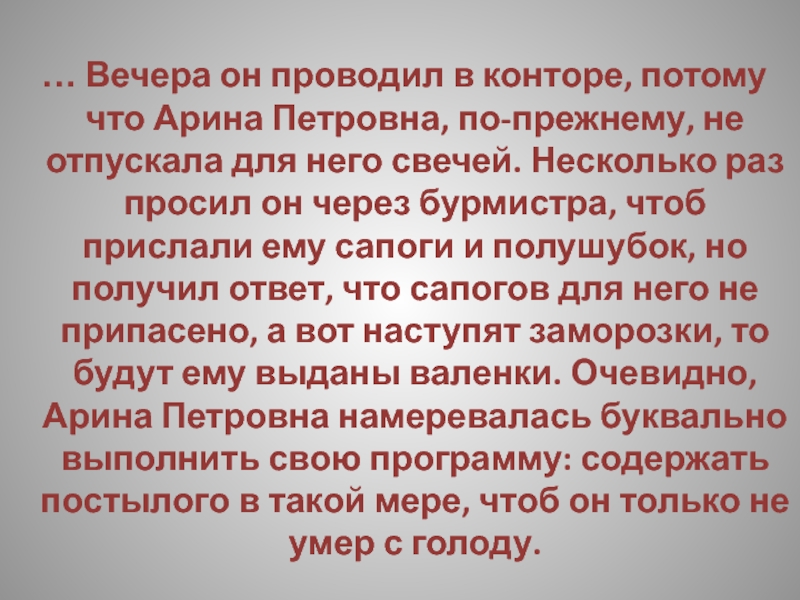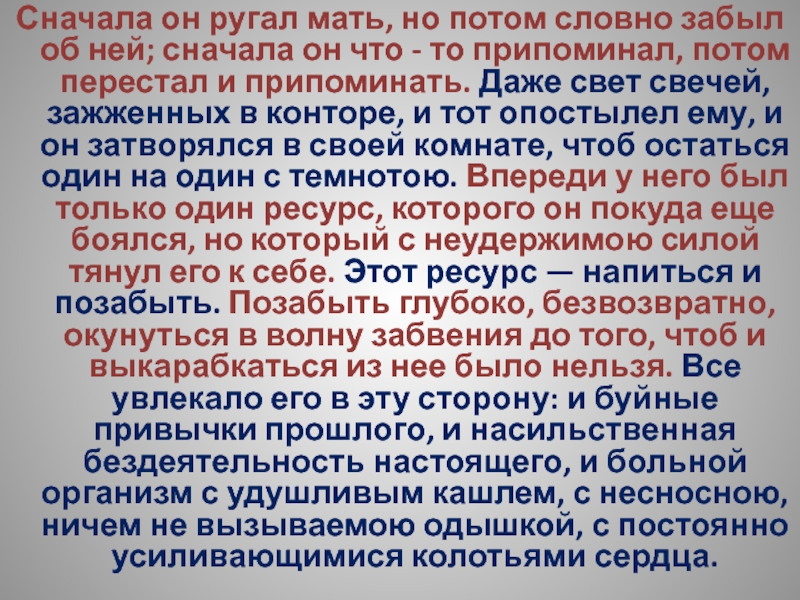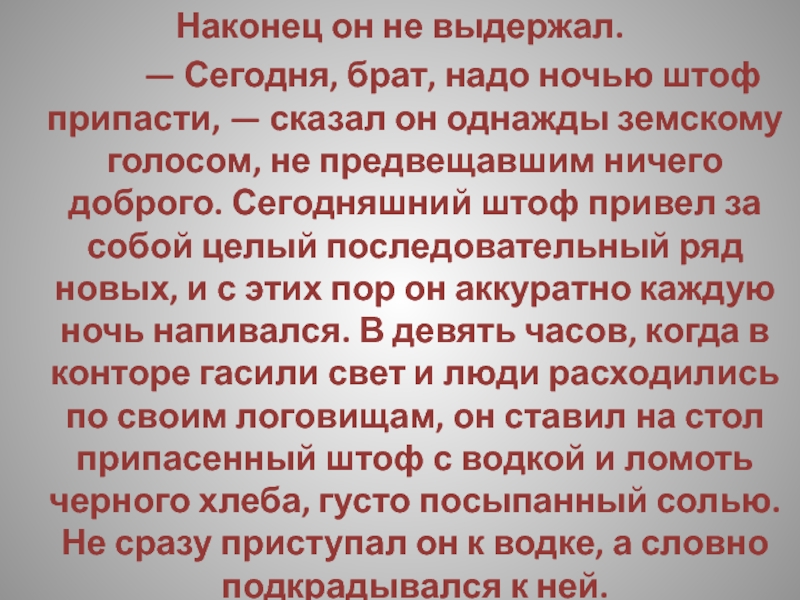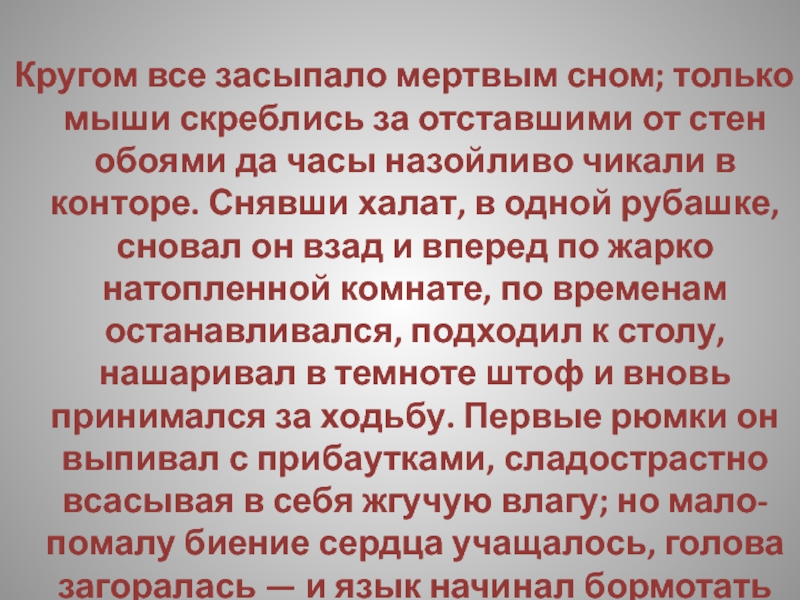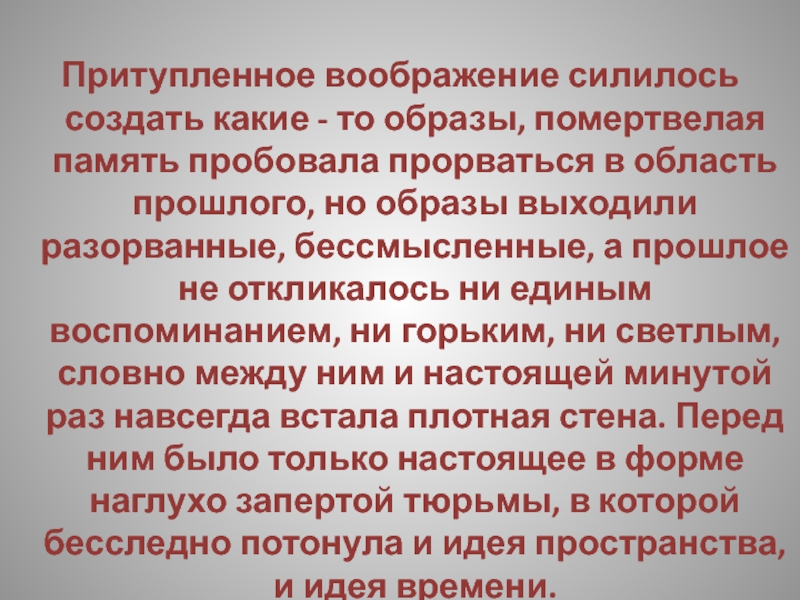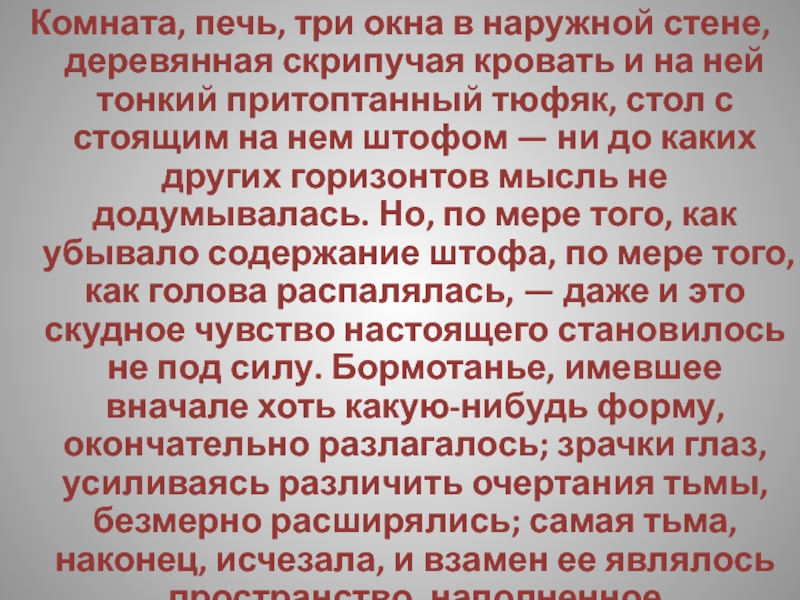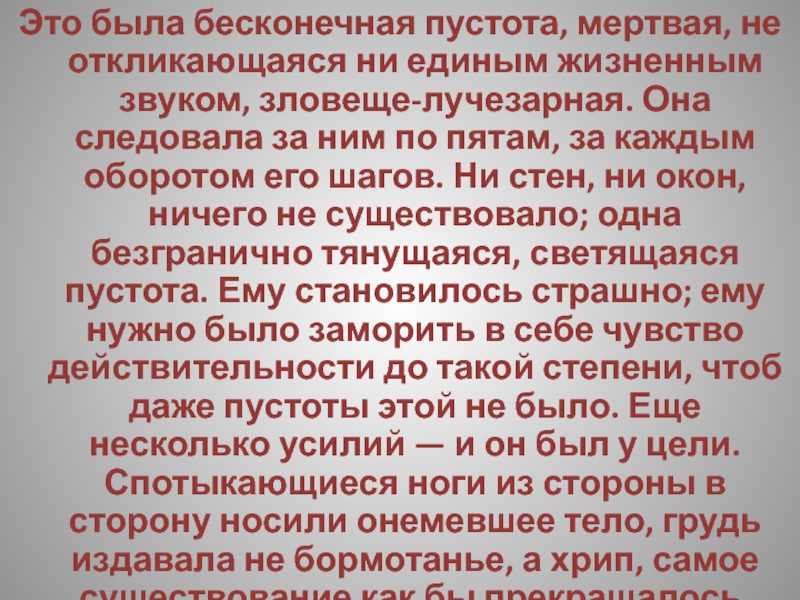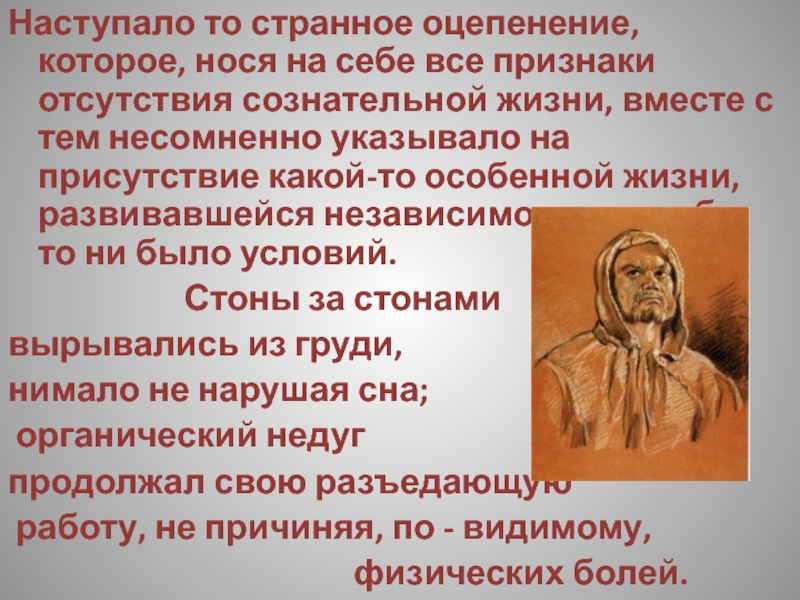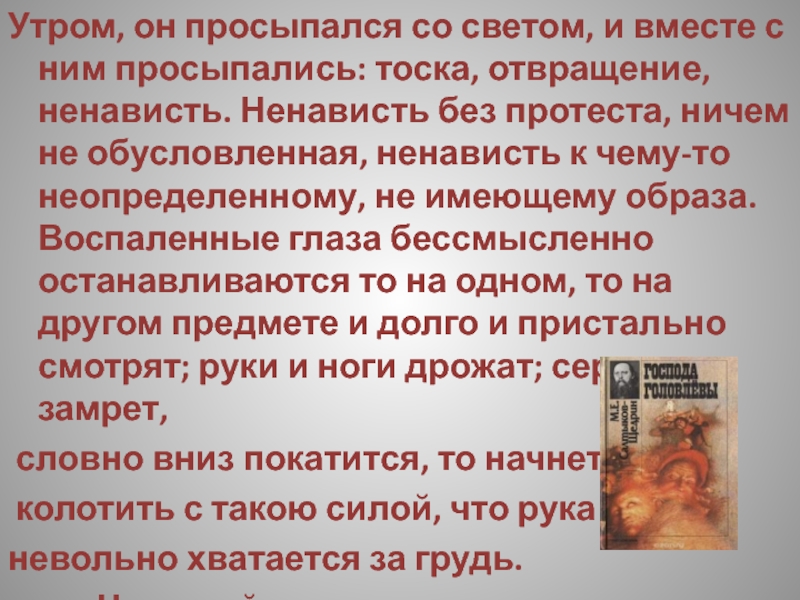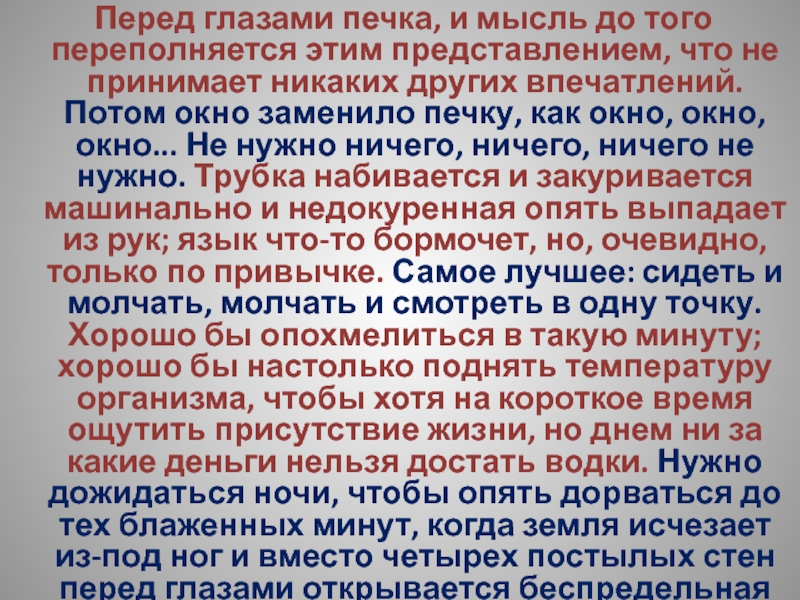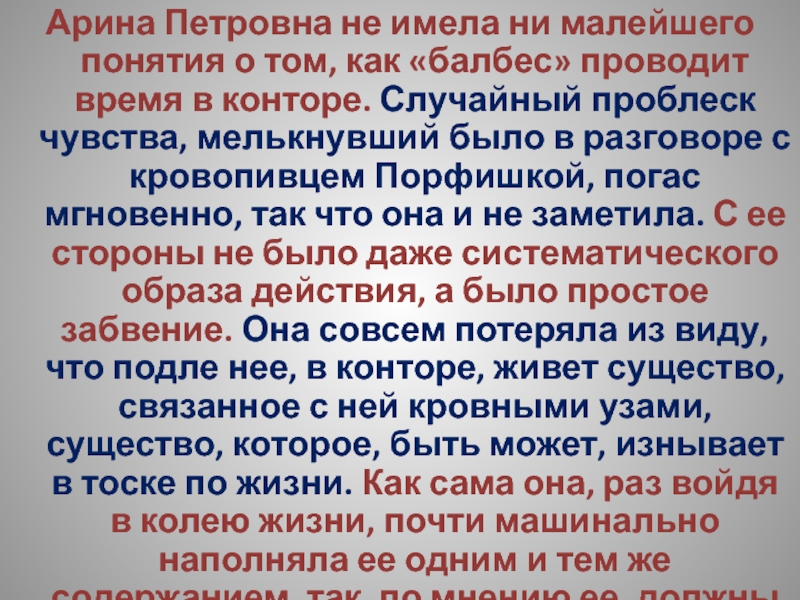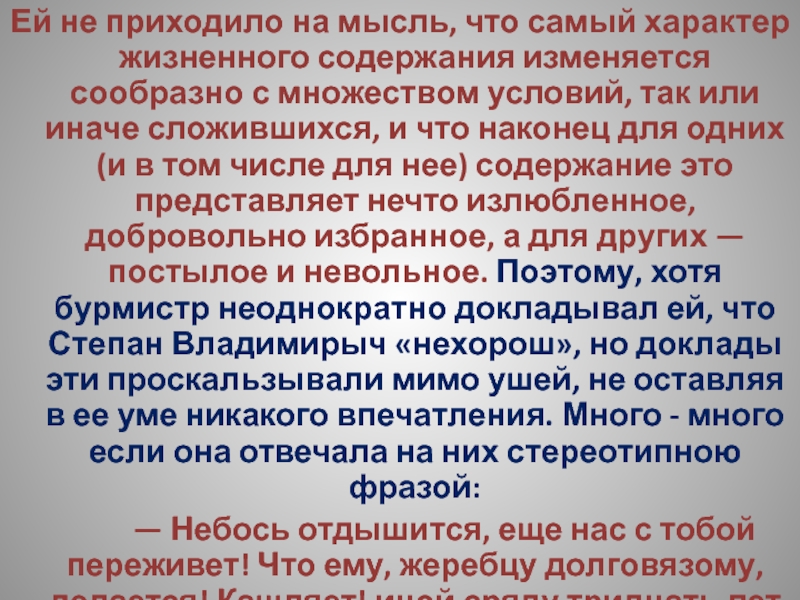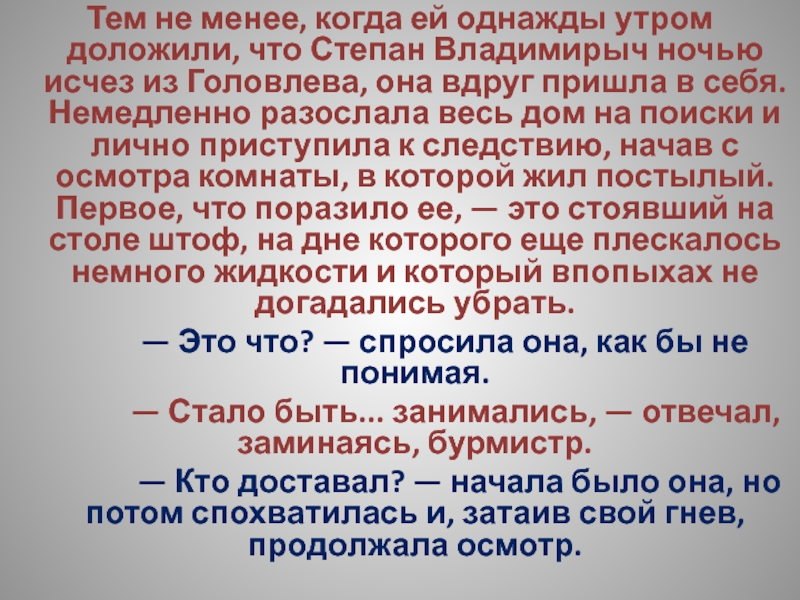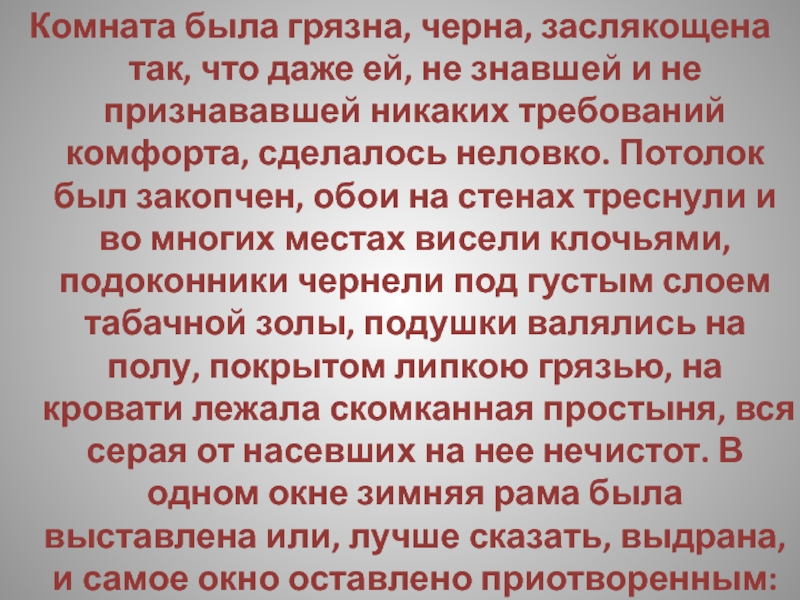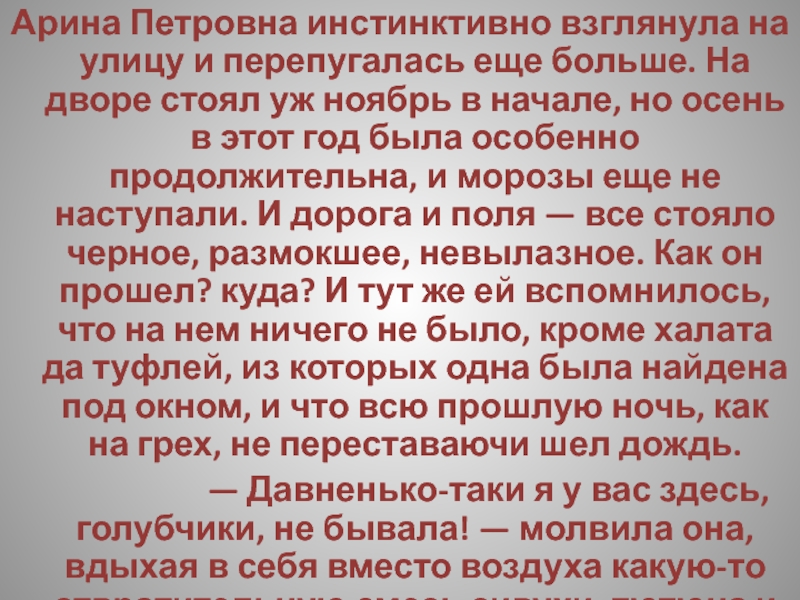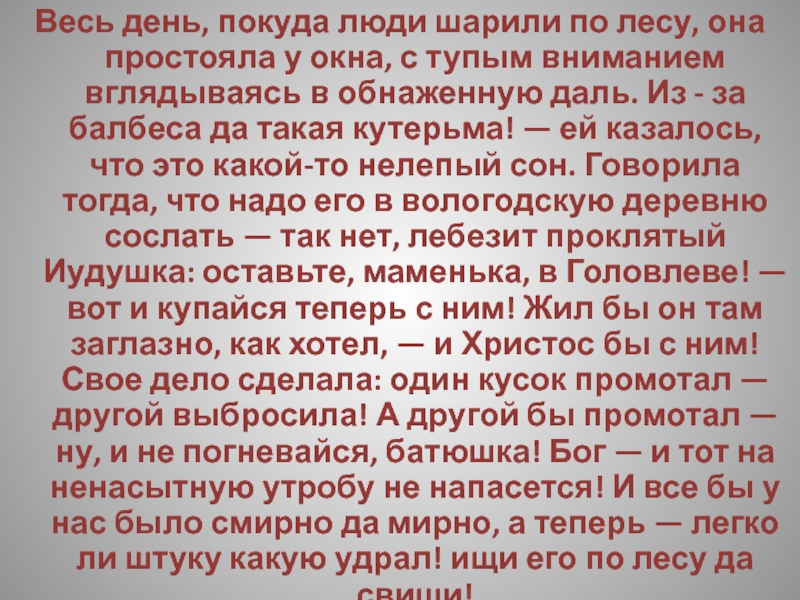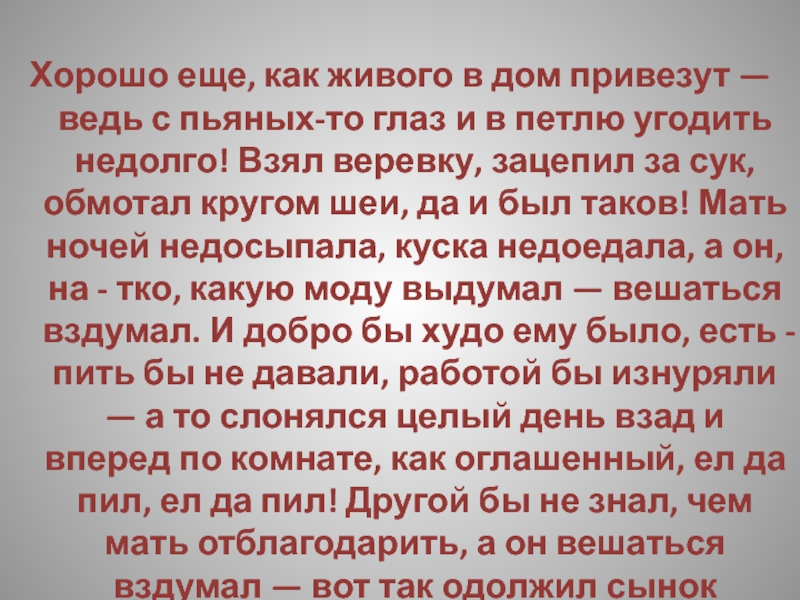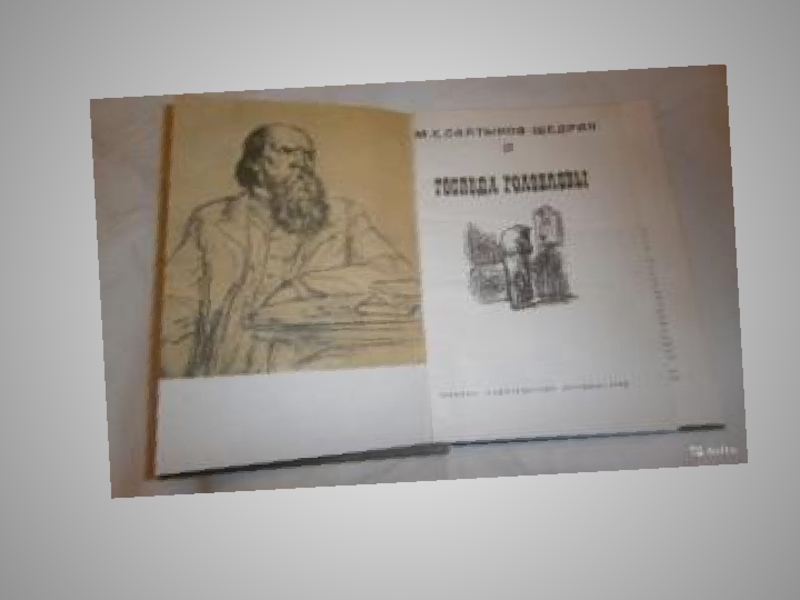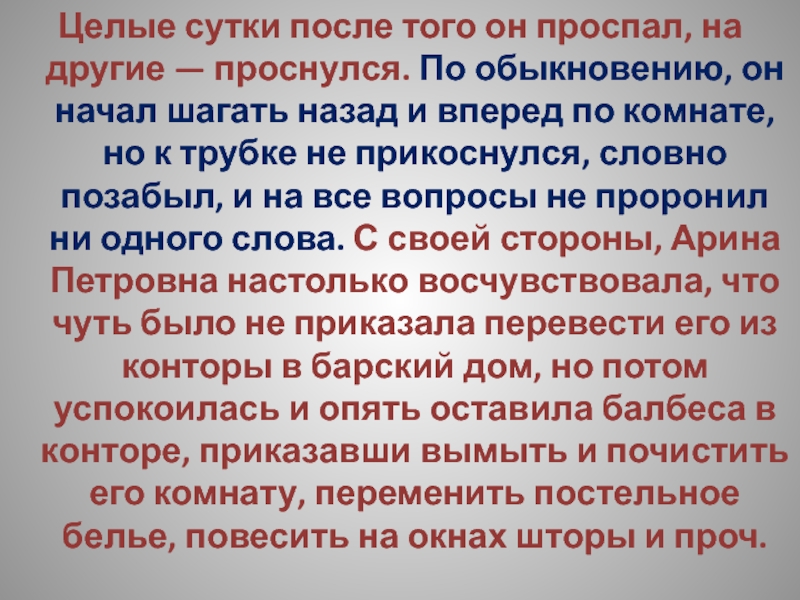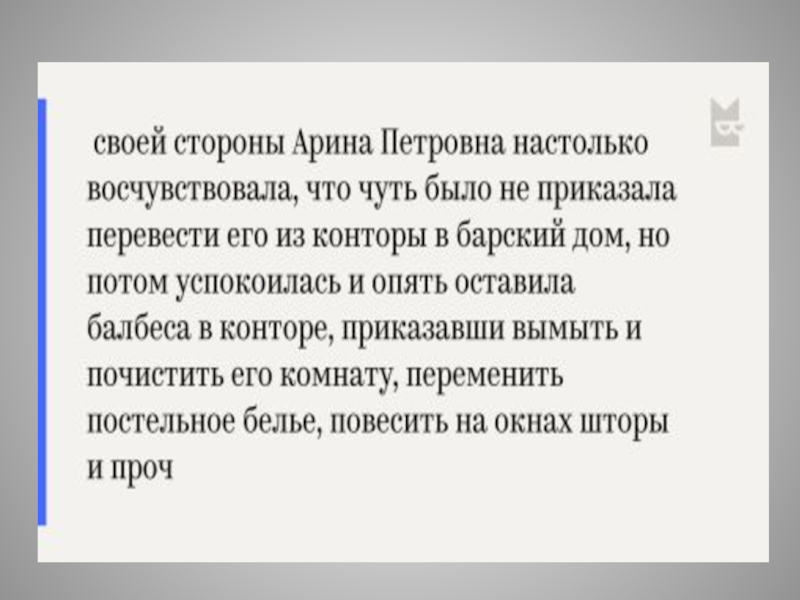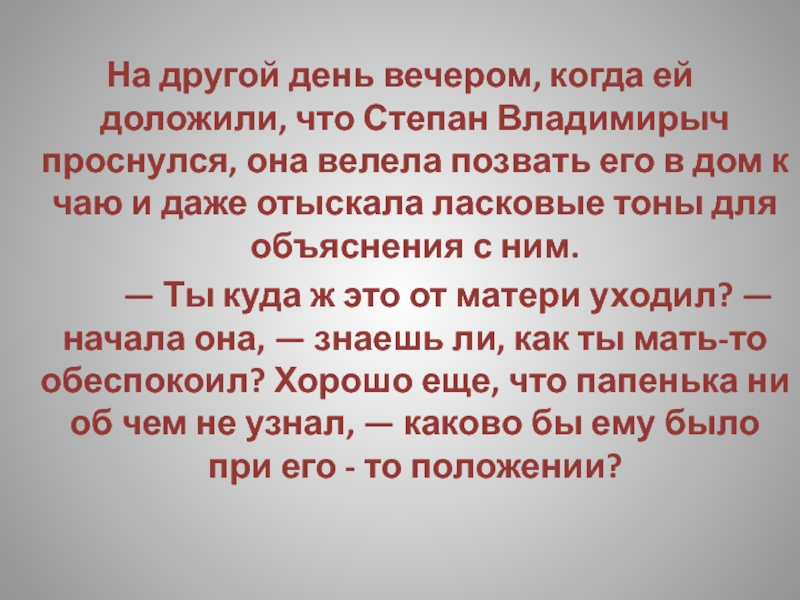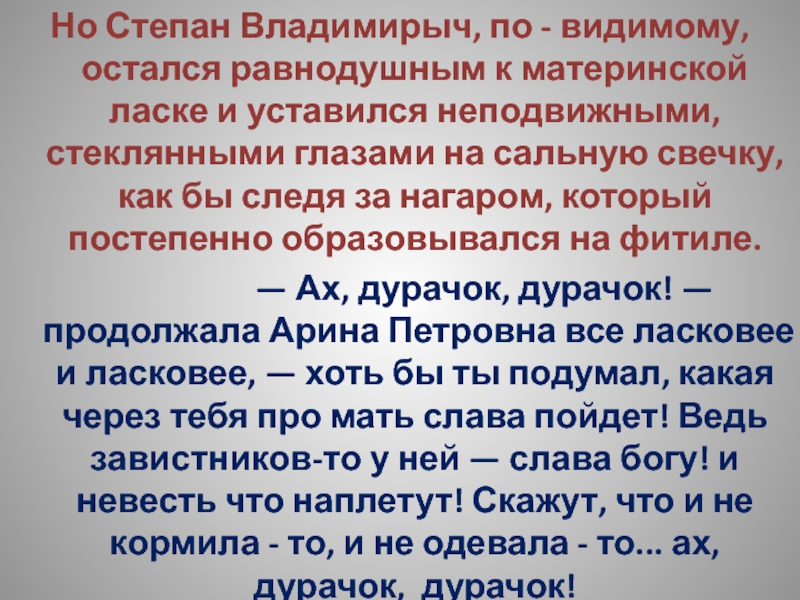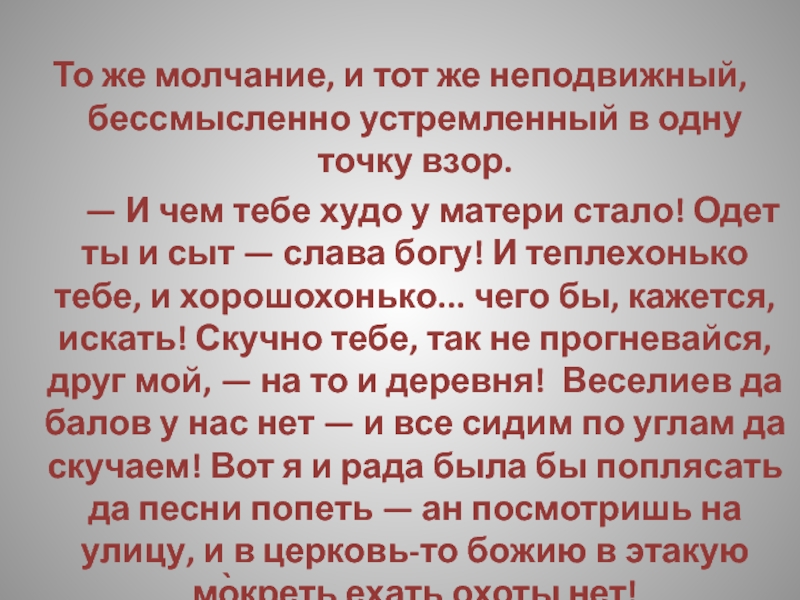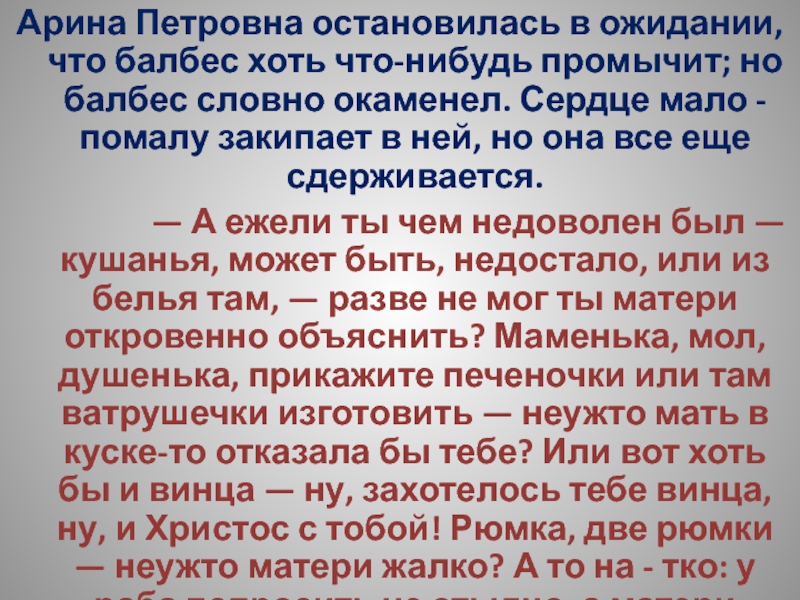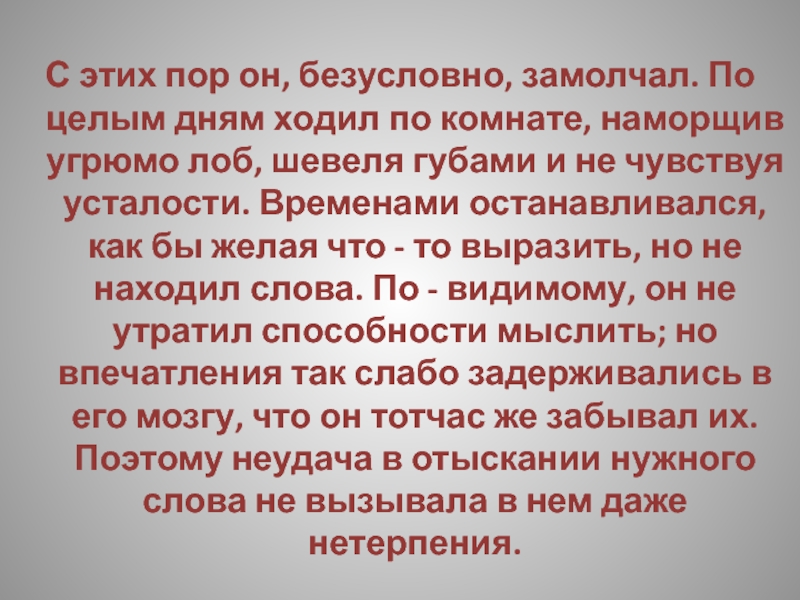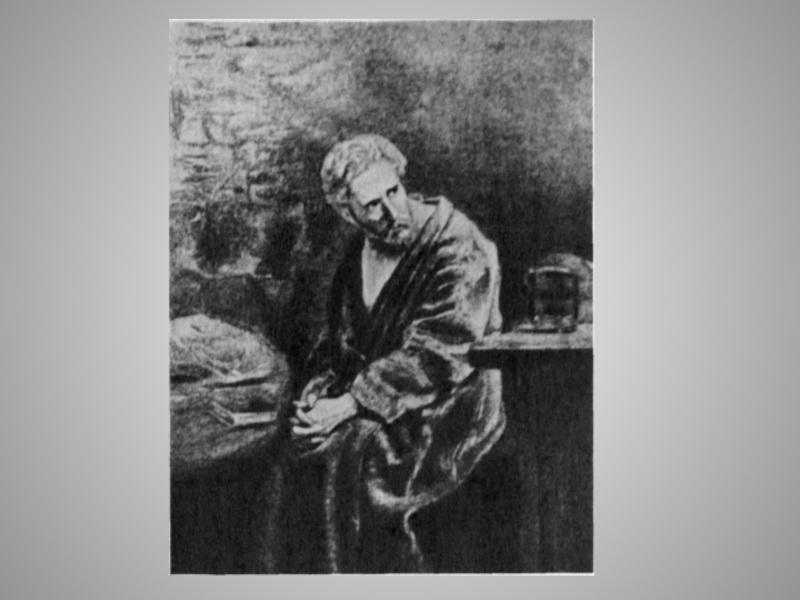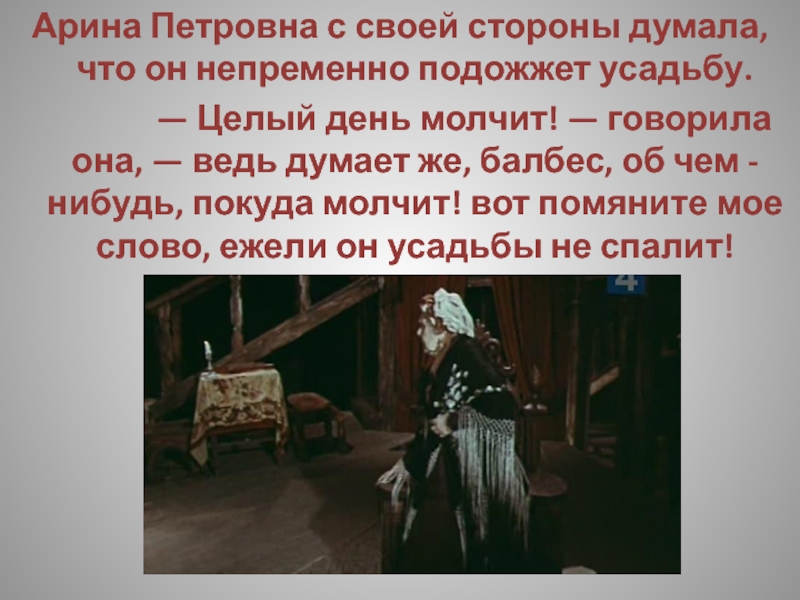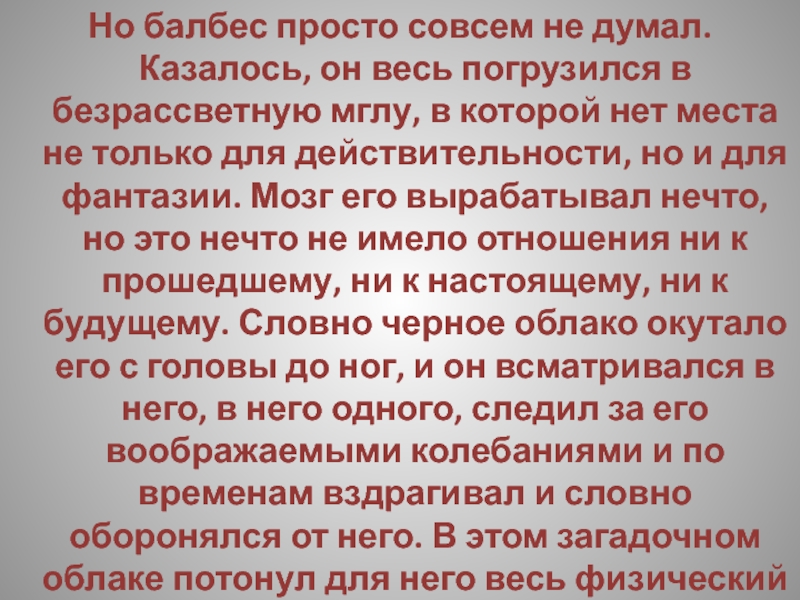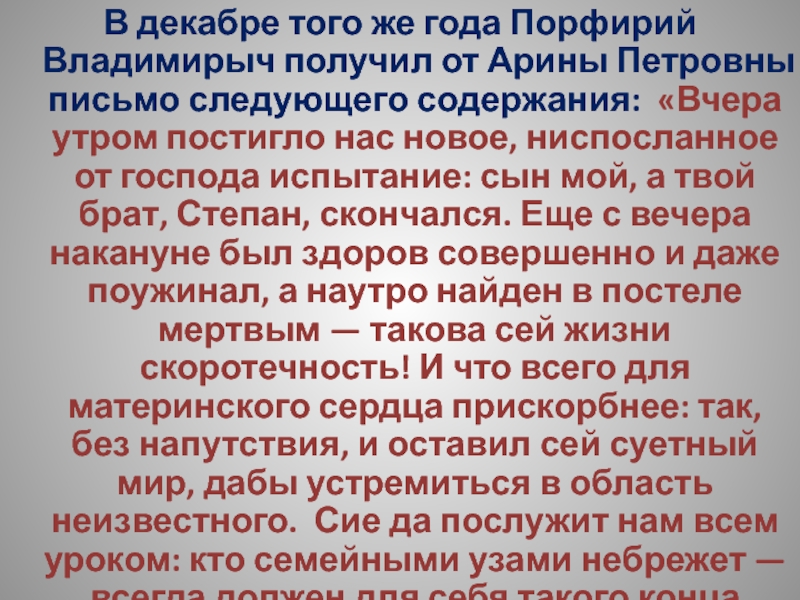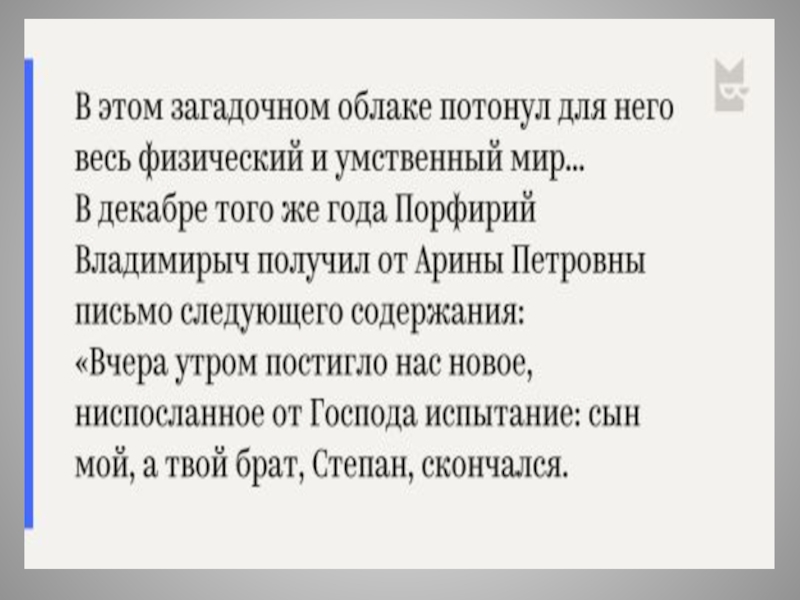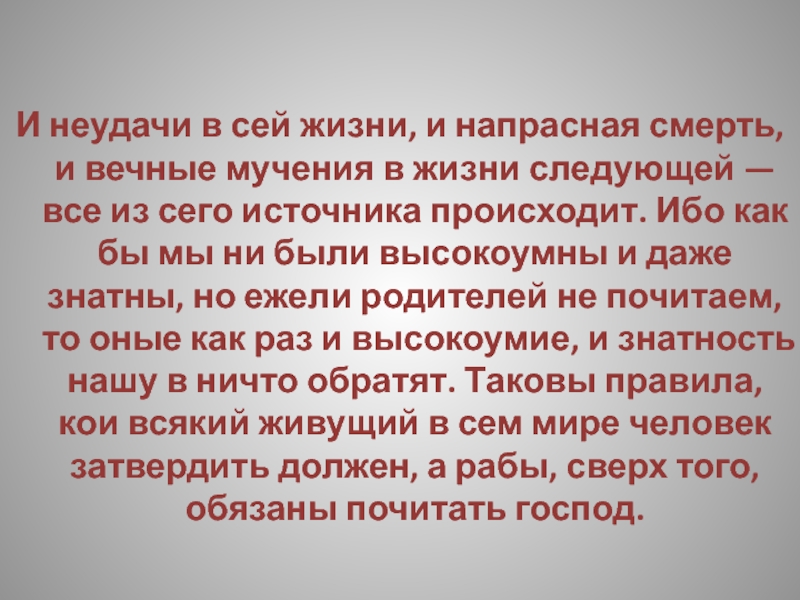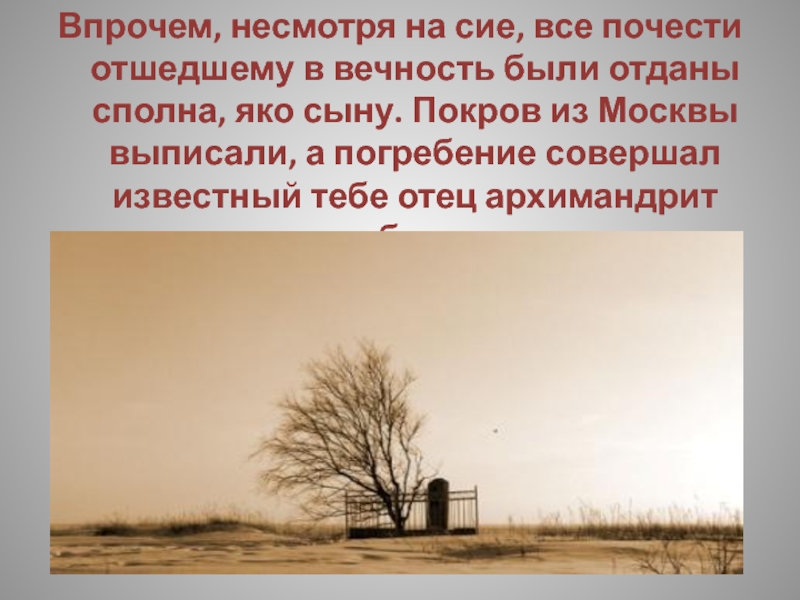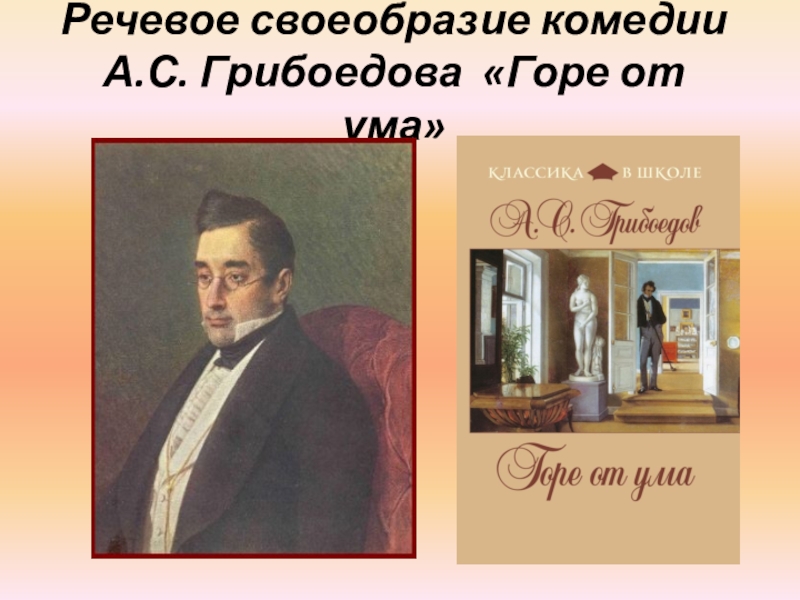Пыстина Лидия Митрофановна
учитель русской литературы
школа – гимназия № 9
г. Павлодар
- Главная
- Разное
- Образование
- Спорт
- Естествознание
- Природоведение
- Религиоведение
- Французский язык
- Черчение
- Английский язык
- Астрономия
- Алгебра
- Биология
- География
- Геометрия
- Детские презентации
- Информатика
- История
- Литература
- Математика
- Музыка
- МХК
- Немецкий язык
- ОБЖ
- Обществознание
- Окружающий мир
- Педагогика
- Русский язык
- Технология
- Физика
- Философия
- Химия
- Шаблоны, фоны, картинки для презентаций
- Экология
- Экономика
Презентация, доклад Образ Степана Головлёва
Содержание
- 1. Презентация. Образ Степана Головлёва
- 2. Слайд 2
- 3. Слайд 3
- 4. Слайд 4
- 5. Степан Владимирыч, старший сын, об котором преимущественно
- 6. К несчастию, это был даровитый малый, слишком
- 7. Слайд 7
- 8. Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия;
- 9. Но Степка не унимался; он был нечувствителен
- 10. Слайд 10
- 11. Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую,
- 12. Слайд 12
- 13. Двадцати лет, Степан Головлев кончил курс в
- 14. Слайд 14
- 15. Но богатенькие, допуская его в свою среду,
- 16. Слайд 16
- 17. Когда он явился к матери с дипломом,
- 18. Слайд 18
- 19. Четыре года бился Головлев в Петербурге и
- 20. Слайд 20
- 21. Что делал и как вел себя Степан
- 22. В первый раз в жизни Степан Головлев
- 23. Слайд 23
- 24. Но, увы! он так мало привык обращаться
- 25. Слайд 25
- 26. На нем был ополченский мундир, довольно,
- 27. Слайд 27
- 28. Но, наконец, наступила минута, когда он, так
- 29. … Степка-балбес, уж подвигался из Москвы по
- 30. Слайд 30
- 31. — Так уж вы, Степан Владимирыч, так
- 32. Слайд 32
- 33. Степану Головлеву нет еще сорока лет, но
- 34. Это — чрезмерно длинный, нечесаный, почти немытый
- 35. Слайд 35
- 36. Смотрит он исподлобья, угрюмо, но эта угрюмость
- 37. Ему ужасно неловко сидеть. В «дележане» поместилось
- 38. Слайд 38
- 39. — У маменьки вашей много кусков!— Только
- 40. Слайд 40
- 41. — Да, уж с табачком, видно,
- 42. Слайд 42
- 43. «А что, если б всех этих мух
- 44. — Нет, полно проказничать — баста! Спите,
- 45. Слайд 45
- 46. Хоть бы сон, черт его возьми, сморил
- 47. Слайд 47
- 48. Однако надо бы и закусить что -
- 49. Слайд 49
- 50. — Иван Михайлыч! а Иван Михайлыч! —
- 51. Слайд 51
- 52. Выпивши, Степан Владимирыч принимается за колбасу, которая
- 53. Слайд 53
- 54. Головлев успел покончить с полуштофом, и его
- 55. Слайд 55
- 56. — Хлеб да соль, господа! — наконец,
- 57. Слайд 57
- 58. Брови у него насуплены, табачный дым так
- 59. Слайд 59
- 60. В пять часов он опять уже на
- 61. Только тут Степан Владимирыч несколько остепеняется. Он
- 62. Наконец лошади, долженствующие везти Ивана Михайлыча дальше,
- 63. Сказавши это, Головлев круто поворачивает по направлению
- 64. Степан Владимирыч видимо колеблется и не знает,
- 65. Головлев окончательно поворачивается лицом к проселку, и
- 66. … Степан Владимирыч ничего не замечает: все
- 67. Припоминаются и другие подробности, хотя непосредственно до
- 68. Вот тетенька Вера Михайловна, которая из милости
- 69. То же самое приблизительно предстоит пережить и
- 70. Слайд 70
- 71. Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездельничества, буффонства,
- 72. И прежде ему случалось думать о будущем
- 73. Слайд 73
- 74. Лицо Степана Владимирыча побледнело, руки затряслись: он
- 75. Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги
- 76. Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило
- 77. Барская усадьба смотрела из - за деревьев
- 78. Слайд 78
- 79. Все понимали, что перед ними постылый, который
- 80. Арина Петровна встретила его торжественно - строго
- 81. Старик дремал в постели, покрытой белым одеялом,
- 82. Слайд 82
- 83. Предвидения его оправдались. Его поместили в особой
- 84. Потянулся ряд вялых, безо̀бразных дней, один за
- 85. Он выслушал маменькину волю и только заметил:
- 86. Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те
- 87. Слайд 87
- 88. На сцену выступил насущный день, с его
- 89. Целыми днями шагал он взад и вперед
- 90. Слайд 90
- 91. Иногда в контору приходил и сам Финогей
- 92. И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма
- 93. Слайд 93
- 94. …Целые часы проводились в подобных разговорах, но
- 95. Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно, приносили остатки
- 96. Слайд 96
- 97. По временам садился у открытого окна и
- 98. Слайд 98
- 99. И вот теперь он с нетерпением ждал
- 100. Время проходило, и он не замечал его.
- 101. Слайд 101
- 102. Одно его тревожило: сердце у него неспокойно
- 103. Но когда однажды утром земский таинственно доложил
- 104. Слайд 104
- 105. Еще в доме было все тихо, а
- 106. Слайд 106
- 107. А на завтрак что заказано?— Печенка заказана,
- 108. Слайд 108
- 109. Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем.
- 110. Слайд 110
- 111. Степка - балбес называл такие торжественные приемы
- 112. … свидание произошло без слов. Молча
- 113. На другой день, утром, оба сына
- 114. … После завтрака она (Арина Петровна) пригласила
- 115. Слайд 115
- 116. — Пришел, словно и дело сделал, словно
- 117. Слайд 117
- 118. Сама и дом-то для него высмотрела, сама
- 119. Каково мне было узнать, что он родительское
- 120. - И хоть бы он меня, мерзавец,
- 121. Слайд 121
- 122. - Вот теперь и судите: каково
- 123. Слайд 123
- 124. Порфирий Владимирыч почувствовал, что праздник на
- 125. Слайд 125
- 126. — Стой! погоди! коли ты говоришь, что
- 127. — Нет, голубушка маменька, и этого не
- 128. Слайд 128
- 129. — Стало быть, ты отказываешься? Выпутывайтесь, мол,
- 130. Слайд 130
- 131. — Мне что ж! Разве вы меня
- 132. — Ну, голубчик, с тобой — после!
- 133. Хотя Порфирий Владимирыч и отказался от суда
- 134. Слайд 134
- 135. Оказалось, однако, что соображение это уж
- 136. Слайд 136
- 137. — Понимаю и это, голубушка маменька. Большую
- 138. Слайд 138
- 139. — «Ах» да «ах» — ты бы
- 140. Слайд 140
- 141. — Промотает он ее, голубушка! дом
- 142. Слайд 142
- 143. Арина Петровна умолкла и уставилась глазами в
- 144. Слайд 144
- 145. Арина Петровна очень хорошо поняла, что Порфишка
- 146. Слайд 146
- 147. Покуда мы с папенькой живы — ну
- 148. Слайд 148
- 149. Арина Петровна ... смотрела на него (Порфирия)
- 150. Слайд 150
- 151. Братцы уехали; головлевская усадьба запустела.
- 152. Степан Владимирыч удивительно освоился с своим новым
- 153. Слайд 153
- 154. В каком - то азарте пробирался он
- 155. Слайд 155
- 156. — Сегодня рыжиков из Дубровина привезли две
- 157. Слайд 157
- 158. Иногда, впрочем, и печалился.
- 159. Слайд 159
- 160. Уверенность Арины Петровны, что с Степки -
- 161. Слайд 161
- 162. С братьями он расстался мирно и
- 163. На прощанье братцы расщедрились и даже дали
- 164. Слайд 164
- 165. … Но Степка-балбес именно тем и счастлив
- 166. — Теперь, брат, мне надолго станет! —
- 167. Стоит это у окна, смотрит, чай, на
- 168. Степану Владимирычу некуда было выйти, потому что
- 169. Там, среди серых испарений осени, словно черные
- 170. Слайд 170
- 171. Двери конторы уже не были отперты настежь,
- 172. Слайд 172
- 173. … В комнате уж совсем темно;
- 174. … Вечера он проводил в конторе,
- 175. Слайд 175
- 176. Сначала он ругал мать, но потом словно
- 177. Слайд 177
- 178. Наконец он не выдержал.
- 179. Слайд 179
- 180. Кругом все засыпало мертвым сном; только мыши
- 181. Слайд 181
- 182. Притупленное воображение силилось создать какие - то
- 183. Слайд 183
- 184. Комната, печь, три окна в наружной стене,
- 185. Слайд 185
- 186. Это была бесконечная пустота, мертвая, не откликающаяся
- 187. Слайд 187
- 188. Наступало то странное оцепенение, которое, нося на
- 189. Утром, он просыпался со светом, и вместе
- 190. Перед глазами печка, и мысль до
- 191. Слайд 191
- 192. Арина Петровна не имела ни малейшего понятия
- 193. Слайд 193
- 194. Ей не приходило на мысль, что самый
- 195. Слайд 195
- 196. Тем не менее, когда ей однажды утром
- 197. Слайд 197
- 198. Комната была грязна, черна, заслякощена так, что
- 199. Слайд 199
- 200. Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и
- 201. Слайд 201
- 202. Весь день, покуда люди шарили по лесу,
- 203. Слайд 203
- 204. Хорошо еще, как живого в дом привезут
- 205. Слайд 205
- 206. Но на этот раз предположения Арины Петровны
- 207. Слайд 207
- 208. Целые сутки после того он проспал, на
- 209. Слайд 209
- 210. На другой день вечером, когда ей доложили,
- 211. Слайд 211
- 212. Но Степан Владимирыч, по - видимому, остался
- 213. Слайд 213
- 214. То же молчание, и тот же неподвижный,
- 215. Слайд 215
- 216. Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес
- 217. Слайд 217
- 218. Но напрасны были все льстивые слова: Степан
- 219. С этих пор он, безусловно, замолчал. По
- 220. Слайд 220
- 221. Арина Петровна с своей стороны думала, что
- 222. Но балбес просто совсем не думал. Казалось,
- 223. Слайд 223
- 224. В декабре того же года Порфирий Владимирыч
- 225. Слайд 225
- 226. И неудачи в сей жизни, и напрасная
- 227. Слайд 227
- 228. Впрочем, несмотря на сие, все почести отшедшему
- 229. Сорокоусты же и поминовения и поднесь совершаются, как следует, по христианскому обычаю.
- 230. Жаль сына, но роптать не смею, и
- 231. Слайд 231
- 232. Слайд 232
Степан Владимирыч, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем рассказе, слыл в семействе под именем Степки-балбеса и Степки-озорника. Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не
Слайд 1Презентация Образ Степана Головлёва (чтение романа М. Салтыкова – Щедрина «Господа Головлёвы»)
Слайд 5Степан Владимирыч, старший сын, об котором преимущественно идет речь в настоящем
рассказе,
слыл в семействе
под именем Степки-балбеса
и Степки-озорника.
Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута.
слыл в семействе
под именем Степки-балбеса
и Степки-озорника.
Он очень рано попал в число «постылых» и с детских лет играл в доме роль не то парии, не то шута.
Слайд 6К несчастию, это был даровитый малый, слишком охотно и быстро воспринимавший
впечатления, которые вырабатывала окружающая среда. От отца он перенял неистощимую проказливость, от матери — способность быстро угадывать слабые стороны людей. Благодаря первому качеству, он скоро сделался любимцем отца, что еще больше усилило нелюбовь к нему матери. Часто, во время отлучек Арины Петровны по хозяйству, отец и подросток-сын удалялись в кабинет, украшенный портретом Баркова, читали стихи вольного содержания и судачили, причем в особенности доставалось «ведьме», то есть Арине Петровне.
Слайд 8Но «ведьма» словно чутьем угадывала их занятия; неслышно подъезжала она к
крыльцу, подходила на цыпочках к кабинетной двери и подслушивала веселые речи. Затем следовало немедленное и жестокое избиение Степки - балбеса.
Слайд 9
Но Степка не унимался; он был нечувствителен ни к побоям, ни
к увещаниям и через полчаса опять принимался куролесить. То косынку у девки Анютки изрежет в куски, то сонной Васютке мух в рот напустит, то заберется на кухню и стянет там пирог (Арина Петровна, из экономии, держала детей впроголодь), который, впрочем, тут же разделит с братьями.
— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна, — убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!
— Убить тебя надо! — постоянно твердила ему Арина Петровна, — убью — и не отвечу! И царь меня не накажет за это!
Слайд 11
Такое постоянное принижение, встречая почву мягкую, легко забывающую, не прошло
даром. Оно имело в результате не озлобление, не протест, а образовало характер рабский, повадливый до буффонства, не знающий чувства меры и лишенный всякой предусмотрительности. Такие личности охотно поддаются всякому влиянию и могут сделаться чем угодно: пропойцами, попрошайками, шутами и даже преступниками.
Слайд 13Двадцати лет, Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий
и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во - первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во - вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванью; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и pique - assiette'а и, благодаря своей податливости на всякую штуку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов.
Слайд 15
Но богатенькие, допуская его в свою среду, все - таки разумели,
что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он естественно тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4 -го курса вышутился окончательно. Тем не меньше, благодаря способности быстро схватывать и запоминать слышанное, он выдержал экзамен с успехом и получил степень кандидата.
Слайд 17Когда он явился к матери с дипломом, Арина Петровна только пожала
плечами и промолвила: дивлюсь! Затем, продержав с месяц в деревне, отправила его в Петербург, назначив на прожиток по сту рублей ассигнациями в месяц. Начались скитания по департаментам и канцеляриям. Протекций у него не было, охоты пробить дорогу личным трудом — никакой. Праздная мысль молодого человека до того отвыкла сосредоточиваться, что даже бюрократические испытания, вроде докладных записок и экстрактов из дел, оказывались для нее непосильными.
Слайд 19Четыре года бился Головлев в Петербурге и наконец должен был сказать
себе, что надежда устроиться когда - нибудь выше канцелярского чиновника для него не существует. В ответ на его сетования Арина Петровна написала грозное письмо, начинавшееся словами: «я зараньше в сем была уверена» и кончавшееся приказанием явиться в Москву. Там, в совете излюбленных крестьян, было решено определить Степку - балбеса в надворный суд, поручив его надзору подьячего, который исстари ходатайствовал по головлевским делам.
Слайд 21Что делал и как вел себя Степан Владимирыч в надворном суде
— неизвестно, но через три года его уж там не было. Тогда Арина Петровна решилась на крайнюю меру: она «выбросила сыну кусок», который, впрочем, в то же время должен был изображать собою и «родительское благословение». Кусок этот состоял из дома в Москве, за который Арина Петровна заплатила двенадцать тысяч рублей.
Слайд 22В первый раз в жизни Степан Головлев вздохнул свободно. Дом обещал
давать тысячу рублей серебром дохода, и сравнительно с прежним эта сумма представлялась ему чем-то вроде заправского благосостояния. Он с увлечением поцеловал у маменьки ручку («то-то же, смотри у меня, балбес! не жди больше ничего!» — молвила при этом Арина Петровна) и обещал оправдать оказанную ему милость.
Слайд 24
Но, увы! он так мало привык обращаться с деньгами, так нелепо
понимал размеры действительной жизни, что сказочной годовой тысячи рублей достало очень ненадолго. В какие - нибудь четыре - пять лет он прогорел окончательно и был рад - радехонек поступить, в качестве заместителя, в ополчение, которое в это время формировалось. Ополчение, впрочем, дошло только до Харькова, как был заключен мир, и Головлев опять вернулся в Москву. Его дом был уже в это время продан.
Слайд 26
На нем был ополченский мундир, довольно, однако ж, потертый, на
ногах — сапоги навыпуск и в кармане — сто рублей денег. С этим капиталом он поднялся было на спекуляцию, то есть стал играть в карты, и невдолге проиграл всё. Тогда он принялся ходить по зажиточным крестьянам матери, жившим в Москве своим хозяйством; у кого обедал, у кого выпрашивал четвертку табаку, у кого по мелочи занимал.
Слайд 28Но, наконец, наступила минута, когда он, так сказать, очутился лицом к
лицу с глухой стеной. Ему было уже под сорок, и он вынужден был сознаться, что дальнейшее бродячее существование для него не по силам. Оставался один путь — в Головлево.
Слайд 29
… Степка-балбес, уж подвигался из Москвы по направлению к Головлеву. Он
сел в Москве, у Рогожской, в один из так называемых «дележанов», в которых в былое время езжали, да и теперь еще кой - где ездят мелкие купцы и торгующие крестьяне, направляясь в свое место в побывку. «Дележан» ехал по направлению к Владимиру, и тот же сердобольный трактирщик Иван Михайлыч вез на свой счет Степана Владимирыча, взявши для него место и уплачивая за его харчи в продолжение всей дороги.
Слайд 31— Так уж вы, Степан Владимирыч, так и сделайте: на повертке
слезьте, да пешком, как есть в костюме — так и отъявитесь к маменьке! — условливался с ним Иван Михайлыч.
— Так, так, так! — подтверждал и Степан Владимирыч, — много ли от повертки — пятнадцать верст пешком пройти! мигом отхватаю! В пыли, в навозе — так и явлюсь!— Увидит маменька в костюме-то — может, и пожалеет!
— Пожалеет! как не пожалеть! Мать — ведь она старуха добрая!
— Так, так, так! — подтверждал и Степан Владимирыч, — много ли от повертки — пятнадцать верст пешком пройти! мигом отхватаю! В пыли, в навозе — так и явлюсь!— Увидит маменька в костюме-то — может, и пожалеет!
— Пожалеет! как не пожалеть! Мать — ведь она старуха добрая!
Слайд 33Степану Головлеву нет еще сорока лет, но по наружности ему никак
нельзя дать меньше пятидесяти. Жизнь до такой степени истрепала его, что не оставила на нем никакого признака дворянского сына, ни малейшего следа того, что и он был когда-то в университете и что и к нему тоже было обращено воспитательное слово науки.
Слайд 34
Это — чрезмерно длинный, нечесаный, почти немытый малый, худой от недостатка
питания, с впалою грудью, с длинными, загребистыми руками. Лицо у него распухшее, волосы на голове и бороде растрепанные, с сильною проседью, голос громкий, но сиплый, простуженный, глаза навыкате и воспаленные, частью от непомерного употребления водки, частью от постоянного нахождения на ветру. На нем ветхая и совершенно затасканная серая ополченка, галуны с которой содраны и проданы на выжигу; на ногах — стоптанные, порыжелые и заплатанные сапоги навыпуск; из - за распахнутой ополченки виднеется рубашка, почти черная, словно вымазанная сажей — рубашка, которую он с истинно ополченским цинизмом сам называет «блошни́цею».
Слайд 36Смотрит он исподлобья, угрюмо, но эта угрюмость не выражает внутреннего недовольства,
а есть следствие какого - то смутного беспокойства, что вот - вот еще минута, и он, как червяк, подохнет с голоду. Говорит он без умолку, без связи перескакивая с одного предмета на другой; говорит и тогда, когда Иван Михайлыч слушает его, и тогда, когда последний засыпает под музыку его говора.
Слайд 37
Ему ужасно неловко сидеть. В «дележане» поместилось четыре человека, а потому
приходится сидеть, скрючивши ноги, что уже на протяжении трех-четырех верст производит невыносимую боль в коленках. Тем не менее, несмотря на боль, он постоянно говорит. Облака пыли врываются в боковые отверстия повозки; по временам заползают туда косые лучи солнца, и вдруг, словно полымем, обожгут всю внутренность «дележана», а он все говорит.
Слайд 39
— У маменьки вашей много кусков!— Только не про меня —
так, что ли, ты хочешь сказать? Да, дружище, деньжищ у нее — целая прорва, а для меня пятака медного жаль! И ведь всегда-то она меня, ведьма, ненавидела! За что? Ну, да теперь, брат, шалишь! с меня взятки-то гладки, я и за горло возьму! Выгнать меня вздумает — не пойду! Есть не даст — сам возьму! Я, брат, отечеству послужил — теперь мне всякий помо̀чь обязан! Одного боюсь: табаку не будет давать — скверность!
Слайд 41 — Да, уж с табачком, видно, проститься придется!
— Так я
бурмистра за бока! может лысый черт и подарить барину!
— Подарить отчего не подарить! А ну, как она, маменька-то ваша, и бурмистру запретит?
— Ну, тогда я уж совсем мат; только одна роскошь у меня и осталась от прежнего великолепия — это табак! Я, брат, как при деньгах был, в день по четвертке Жукова выкуривал!
— Вот и с водочкой тоже проститься придется!— Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна — мокро̀ту разбивает.
— Подарить отчего не подарить! А ну, как она, маменька-то ваша, и бурмистру запретит?
— Ну, тогда я уж совсем мат; только одна роскошь у меня и осталась от прежнего великолепия — это табак! Я, брат, как при деньгах был, в день по четвертке Жукова выкуривал!
— Вот и с водочкой тоже проститься придется!— Тоже скверность. А мне водка даже для здоровья полезна — мокро̀ту разбивает.
Слайд 43«А что, если б всех этих мух к нему в хайло̀
препроводить — то-то бы, чай, небо с овчинку показалось!» — вдруг осеняет Головлева счастливая мысль, и он уже начинает подкрадываться к купцу рукой, чтобы привести свой план в исполнение, но на половине пути что-то припоминает и останавливается.
Слайд 44— Нет, полно проказничать — баста! Спите, други, и почивайте! А
я покуда... и куда это он полштоф засунул? Ба! вот он, голубчик! Полезай, полезай Спа- си, го-о-споди, люди твоя! — запевает он вполголоса, вынимая посудину из холщовой сумки, прикрепленной сбоку кибитки, и прикладывая ко рту горлышко, — ну вот, теперь ладно! тепло сделалось! Или еще? Нет, ладно... до станции-то верст двадцать еще будет, успею натенькаться... или еще? Ах, прах ее побери, эту водку! Увидишь полштоф — так и подманивает! Пить скверно, да и не пить нельзя — потому сна нет!
Слайд 46Хоть бы сон, черт его возьми, сморил меня! Булькнув еще несколько
глотков из горлышка, он засовывает полштоф на прежнее место и начинает набивать трубку.
— Важно! — говорит он, — сперва выпили, а теперь трубочки покурим! Не даст, ведьма, мне табаку, не даст — это он верно сказал. Есть - то даст ли? Объедки, чай, какие-нибудь со стола посылать будет! Эхма! были и у нас денежки — и нет их! Был человек — и нет его! Так-то вот и все на сем свете! сегодня ты и сыт и пьян, живешь в свое удовольствие, трубочку покуриваешь...
А завтра — где ты, человек?
— Важно! — говорит он, — сперва выпили, а теперь трубочки покурим! Не даст, ведьма, мне табаку, не даст — это он верно сказал. Есть - то даст ли? Объедки, чай, какие-нибудь со стола посылать будет! Эхма! были и у нас денежки — и нет их! Был человек — и нет его! Так-то вот и все на сем свете! сегодня ты и сыт и пьян, живешь в свое удовольствие, трубочку покуриваешь...
А завтра — где ты, человек?
Слайд 48Однако надо бы и закусить что - нибудь. Пьешь - пьешь,
словно бочка с изъяном, а закусить путем не закусишь. А доктора сказывают, что питье тогда на пользу, когда при нем и закуска благопотребная есть, как говорил преосвященный Смарагд, когда мы через Обоянь проходили. Через Обоянь ли? А черт его знает, может, и через Кромы! Не в том, впрочем, дело, а как бы закуски теперь добыть. Помнится, что он в мешочек колбасу и три французских хлеба положил! Небось икорки пожалел купить! Ишь ведь как спит, какие песни носом выводит! Чай, и провизию-то под себя сгреб! Он шарит крутом себя и ничего не нашаривает.
Слайд 50— Иван Михайлыч! а Иван Михайлыч! — окликает он.
Иван Михайлыч просыпается и с минуту словно не понимает, каким образом он очутился vis-а-vis с барином.
— А меня только что было сон заводить начал! — наконец говорит он.
— Ничего, друг, спи! Я только спросить, где у нас тут мешок с провизией спрятан?
— Поесть захотелось? да ведь прежде, чай, выпить надо!
— И то дело! где у тебя полштоф - то?
Слайд 52Выпивши, Степан Владимирыч принимается за колбасу, которая оказывается твердою, как камень,
соленою, как сама соль, и облеченною в такой прочный пузырь, что нужно прибегнуть к острому концу ножа, чтобы проткнуть его.
— Белорыбицы бы теперь хорошо, — говорит ок. — Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил: беспременно напомни об белорыбице — и вот, словно грех случился!
— Ничего, и колбасы поедим. Походом шли — не то едали. Вот папенька рассказывал...
— Белорыбицы бы теперь хорошо, — говорит ок. — Уж извините, сударь, совсем из памяти вон. Все утро помнил, даже жене говорил: беспременно напомни об белорыбице — и вот, словно грех случился!
— Ничего, и колбасы поедим. Походом шли — не то едали. Вот папенька рассказывал...
Слайд 54Головлев успел покончить с полуштофом, и его разбирал сильный голод. Пассажиры
ушли в избу и расположились обедать. Побродив по двору, заглянув на задворки и в ясли к лошадям, вспугнувши голубей и даже попробовавши заснуть, Степан Владимирыч наконец убеждается, что самое лучшее для него — это последовать за прочими пассажирами в избу. Там, на столе, уже дымятся щи, и в сторонке, на деревянном лотке, лежит большой кус говядины, которую Иван Михайлыч крошит на мелкие куски. Головлев садится несколько поодаль, закуривает трубку и долгое время не знает, как поступить относительно своего насыщения.
Слайд 56— Хлеб да соль, господа! — наконец, говорит он, — щи
- то, кажется, жирные?
— Ничего щи! — отзывается Иван Михайлыч, — да вы бы, сударь, и себе спросили!
— Нет, я только к слову, сыт я!
— Чего сыты! Колбасы кусок съели, а с ее, с проклятой, еще пуще живот пучит. Кушайте - ка! вот я велю в сторонке для вас столик накрыть — кушайте на здоровье! Хозяюшка! накрой барину в сторонке — вот так!
Пассажиры молча приступают к еде и только загадочно переглядываются между собой. Головлев догадывается, что его «проникли», хотя он, не без нахальства, всю дорогу разыгрывал барина и называл Ивана Михайлыча своим казначеем.
— Ничего щи! — отзывается Иван Михайлыч, — да вы бы, сударь, и себе спросили!
— Нет, я только к слову, сыт я!
— Чего сыты! Колбасы кусок съели, а с ее, с проклятой, еще пуще живот пучит. Кушайте - ка! вот я велю в сторонке для вас столик накрыть — кушайте на здоровье! Хозяюшка! накрой барину в сторонке — вот так!
Пассажиры молча приступают к еде и только загадочно переглядываются между собой. Головлев догадывается, что его «проникли», хотя он, не без нахальства, всю дорогу разыгрывал барина и называл Ивана Михайлыча своим казначеем.
Слайд 58Брови у него насуплены, табачный дым так и валит изо рта.
Он готов отказаться от еды, но требования голода до того настоятельны, что он как-то хищно набрасывается на поставленную перед ним чашку щей и мгновенно опоражнивает ее. Вместе с сытостью возвращается к нему и самоуверенность, и он, как ни в чем не бывало, говорит, обращаясь к Ивану Михайлычу:
— Ну, брат казначей, ты уж и расплачивайся за меня, а я пойду на сеновал с Храповицким поговорить! Переваливаясь, отправляется он на сенник и на этот раз, так как желудок у него обременен, засыпает богатырским сном.
— Ну, брат казначей, ты уж и расплачивайся за меня, а я пойду на сеновал с Храповицким поговорить! Переваливаясь, отправляется он на сенник и на этот раз, так как желудок у него обременен, засыпает богатырским сном.
Слайд 60В пять часов он опять уже на ногах. Видя, что лошади
стоят у пустых яслей и чешутся мордами об края их, он начинает будить ямщика.
— Дрыхнет, каналья! — кричит он, — нам к спеху, а он приятные сны видит! Так идет дело до станции, с которой дорога повертывает на Головлево.
— Дрыхнет, каналья! — кричит он, — нам к спеху, а он приятные сны видит! Так идет дело до станции, с которой дорога повертывает на Головлево.
Слайд 61Только тут Степан Владимирыч несколько остепеняется. Он явно упадает духом и
делается молчаливым. На этот раз уж Иван Михайлыч ободряет
его и паче всего убеждает
бросить трубку.
— Вы, сударь, как будете
к усадьбе подходить,
трубку - то в крапиву бросьте! после найдете!
его и паче всего убеждает
бросить трубку.
— Вы, сударь, как будете
к усадьбе подходить,
трубку - то в крапиву бросьте! после найдете!
Слайд 62Наконец лошади, долженствующие везти Ивана Михайлыча дальше, готовы. Наступает момент расставания.—
Прощай, брат! — говорит Головлев дрогнувшим голосом, целуя Ивана Михайлыча,
— заест она меня!
— Бог милостив!
вы тоже не слишним
пугайтесь!
— Заест! — повторяет Степан Владимирыч таким убежденным тоном, что Иван Михайлыч невольно опускает глаза.
— заест она меня!
— Бог милостив!
вы тоже не слишним
пугайтесь!
— Заест! — повторяет Степан Владимирыч таким убежденным тоном, что Иван Михайлыч невольно опускает глаза.
Слайд 63Сказавши это, Головлев круто поворачивает по направлению проселка и начинает шагать,
опираясь на суковатую палку, которую он перед тем срезал от дерева.
Иван Михайлыч некоторое
время следит за ним и
потом бросается ему вдогонку.
— Вот что, барин! — говорит он, нагоняя его, — давеча, как ополченку вашу чистил, так три целковеньких в боковом кармане видел — не оброните как - нибудь ненароком!
Иван Михайлыч некоторое
время следит за ним и
потом бросается ему вдогонку.
— Вот что, барин! — говорит он, нагоняя его, — давеча, как ополченку вашу чистил, так три целковеньких в боковом кармане видел — не оброните как - нибудь ненароком!
Слайд 64Степан Владимирыч видимо колеблется и не знает, как ему поступить в
этом случае. Наконец он протягивает Ивану Михайлычу руку и говорит сквозь слезы:
— Понимаю... служивому на табак... благодарю! А что касается до того... заест она меня, друг любезный! вот помяни мое слово — заест!
— Понимаю... служивому на табак... благодарю! А что касается до того... заест она меня, друг любезный! вот помяни мое слово — заест!
Слайд 65Головлев окончательно поворачивается лицом к проселку, и через пять минут уже
далеко мелькает его серый ополченский картуз, то исчезая, то вдруг появляясь из-за чащи лесной поросли.
Слайд 66… Степан Владимирыч ничего не замечает: все легкомыслие вдруг соскочило с
него, и он идет, словно на Страшный суд. Одна мысль до краев переполняет все его существо: еще три - четыре часа — и дальше идти уже некуда.
Он припоминает свою
старую головлевскую жизнь,
и ему кажется, что перед
ним растворяются двери
сырого подвала, что, как
только он перешагнет за порог
этих дверей, так они сейчас захлопнутся, — и тогда все кончено.
Он припоминает свою
старую головлевскую жизнь,
и ему кажется, что перед
ним растворяются двери
сырого подвала, что, как
только он перешагнет за порог
этих дверей, так они сейчас захлопнутся, — и тогда все кончено.
Слайд 67Припоминаются и другие подробности, хотя непосредственно до него не касающиеся, но
несомненно характеризующие головлевские порядки. Вот дяденька Михаил Петрович (в просторечии
«Мишка-буян»), который
тоже принадлежал к числу
«постылых» и которого
дедушка Петр Иваныч
заточил к дочери в Головлево,
где он жил в людской
и ел из одной чашки с собакой Трезоркой.
«Мишка-буян»), который
тоже принадлежал к числу
«постылых» и которого
дедушка Петр Иваныч
заточил к дочери в Головлево,
где он жил в людской
и ел из одной чашки с собакой Трезоркой.
Слайд 68Вот тетенька Вера Михайловна, которая из милости жила в головлевской усадьбе
у братца Владимира Михайлыча и которая умерла «от умеренности»,
потому что Арина Петровна
корила ее каждым куском,
съедаемым за обедом,
и каждым поленом дров,
употребляемых для отопления ее комнаты.
потому что Арина Петровна
корила ее каждым куском,
съедаемым за обедом,
и каждым поленом дров,
употребляемых для отопления ее комнаты.
Слайд 69То же самое приблизительно предстоит пережить и ему. В воображении его
мелькает бесконечный ряд безрассветных дней, утопающих в какой-то зияющей серой пропасти, — и он невольно закрывает глаза. Отныне он будет один на один с злою старухою, и даже не злою, а только оцепеневшею в апатии властности. Эта старуха заест его, заест не мучительством, а забвением. Не с кем молвить слова, некуда бежать — везде она, властная, цепенящая, презирающая. Мысль об этом неотвратимом будущем до такой степени всего его наполнила тоской, что он остановился около дерева и несколько времени бился об него головой.
Слайд 71Вся его жизнь, исполненная кривлянья, бездельничества, буффонства, вдруг словно осветилась перед
его умственным оком. Он идет теперь в Головлево,
он знает, что ожидает там
его, и все-таки идет, и не
может не идти. Нет у него
другой дороги.
Самый последний из людей
может что - нибудь для себя сделать, может добыть себе хлеба — он один ничего не может. Эта мысль словно впервые проснулась в нем.
он знает, что ожидает там
его, и все-таки идет, и не
может не идти. Нет у него
другой дороги.
Самый последний из людей
может что - нибудь для себя сделать, может добыть себе хлеба — он один ничего не может. Эта мысль словно впервые проснулась в нем.
Слайд 72И прежде ему случалось думать о будущем и рисовать себе всякого
рода перспективы, но это были всегда перспективы дарового довольства и никогда — перспективы труда. И вот теперь ему предстояла расплата за тот угар, в котором бесследно потонуло его прошлое. Расплата горькая, выражавшаяся в одном ужасном слове: заест! Было около десяти часов утра, когда из-за леса показалась белая головлевская колокольня.
Слайд 74Лицо Степана Владимирыча побледнело, руки затряслись: он снял картуз и перекрестился.
Вспомнилась ему евангельская притча о блудном сыне, возвращающемся
домой, но он тотчас же
понял, что, в применении
к нему, подобные
воспоминания составляют
только одно обольщение.
Слайд 75Наконец он отыскал глазами поставленный близ дороги межевой столб и очутился
на головлевской земле, на той постылой земле, которая родила его
постылым,
вскормила постылым,
выпустила постылым
на все четыре стороны
и теперь, постылого же,
вновь принимает его в свое лоно.
постылым,
вскормила постылым,
выпустила постылым
на все четыре стороны
и теперь, постылого же,
вновь принимает его в свое лоно.
Слайд 76Солнце стояло уже высоко и беспощадно палило бесконечные головлевские поля. Но
он бледнел все больше и больше и чувствовал, что его начинает знобить. Наконец он дошел до погоста, и тут бодрость окончательно оставила его.
Слайд 77
Барская усадьба смотрела из - за деревьев так мирно, словно в
ней не происходило ничего особенного; но на него ее вид произвел действие медузиной головы. Там чудился ему гроб.
Гроб! гроб! гроб! — повторял он бессознательно про себя.
И не решился - таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька.
Гроб! гроб! гроб! — повторял он бессознательно про себя.
И не решился - таки идти прямо в усадьбу, а зашел прежде к священнику и послал его известить о своем приходе и узнать, примет ли его маменька.
Слайд 79Все понимали, что перед ними постылый, который пришел в постылое место,
пришел навсегда, и нет для него отсюда выхода, кроме как ногами вперед на погост. И всем делалось в одно и то же время и жалко и жутко. Наконец поп пришел и сказал, что «маменька готовы принять»
Степана Владимирыча.
Через десять минут он был уже там.
Степана Владимирыча.
Через десять минут он был уже там.
Слайд 80Арина Петровна встретила его торжественно - строго и смерила с ног
до головы ледяным взглядом; но никаких бесполезных упреков не позволила себе.
И в комнаты не допустила,
а так на девичьем крыльце
свиделась и рассталась,
приказав проводить
молодого барина через
другое крыльцо к папеньке.
И в комнаты не допустила,
а так на девичьем крыльце
свиделась и рассталась,
приказав проводить
молодого барина через
другое крыльцо к папеньке.
Слайд 81Старик дремал в постели, покрытой белым одеялом, в белом колпаке, весь
белый, словно мертвец. Увидевши его, он проснулся и идиотски захохотал.
— Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! — крикнул он, покуда Степан Владимирыч целовал его руку.
Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил:
— съест! съест! съест!— Съест! — словно эхо, откликнулось и в его душе.
— Что, голубчик! попался к ведьме в лапы! — крикнул он, покуда Степан Владимирыч целовал его руку.
Потом крикнул петухом, опять захохотал и несколько раз сряду повторил:
— съест! съест! съест!— Съест! — словно эхо, откликнулось и в его душе.
Слайд 83Предвидения его оправдались. Его поместили в особой комнате того флигеля, в
котором помещалась и контора. Туда принесли ему белье из домашнего холста и старый папенькин халат, в который он и облачился немедленно. Двери склепа растворились, пропустили его, и — захлопнулись.
Слайд 84Потянулся ряд вялых, безо̀бразных дней, один за другим утопающих в серой,
зияющей бездне времени. Арина Петровна не принимала его; к отцу его тоже не допускали. Дня через три бурмистр Финогей Ипатыч объявил ему от маменьки «положение», заключавшееся в том, что он будет получать стол и одежу и, сверх того, по фунту Фалера в месяц.
Слайд 85Он выслушал маменькину волю и только заметил:
— Ишь ведь, старая! Пронюхала, что Жуков два рубля, а Фалер рубль девяносто стоит — и тут десять копеечек ассигнациями в месяц утянула! Верно, нищему на мой счет подать собиралась!
Слайд 86
Признаки нравственного отрезвления, появившиеся было в те часы, покуда он приближался
проселком к Головлеву, вновь куда - то исчезли. Легкомыслие опять вступило в свои права, а вместе с тем последовало и примирение с «маменькиным положением». Будущее, безнадежное и безвыходное, однажды блеснувшее его уму и наполнившее его трепетом, с каждым днем все больше и больше заволакивалось туманом и, наконец, совсем перестало существовать.
Слайд 88На сцену выступил насущный день, с его цинической наготою, и выступил
так назойливо и нагло, что всецело заполонил все помыслы, все существо. Да и какую роль может играть мысль о будущем, когда течение всей жизни бесповоротно и в самых малейших подробностях уже решено в уме Арины Петровны?
Слайд 89Целыми днями шагал он взад и вперед по отведенной комнате, не
выпуская трубки изо рта и напевая кой - какие обрывки песен, причем церковные напевы неожиданно сменялись разухабистыми, и наоборот. Когда в конторе находился налицо земский, то он заходил к нему и высчитывал доходы, получаемые Ариной Петровной.
— И куда она экую прорву деньжищ девает! — удивлялся он, досчитываясь до цифры с лишком в восемьдесят тысяч на ассигнации, — братьям, я знаю, не ахти сколько посылает, сама живет скаредно, отца солеными полотками кормит... В ломбард! больше некуда, как в ломбард кладет.
— И куда она экую прорву деньжищ девает! — удивлялся он, досчитываясь до цифры с лишком в восемьдесят тысяч на ассигнации, — братьям, я знаю, не ахти сколько посылает, сама живет скаредно, отца солеными полотками кормит... В ломбард! больше некуда, как в ломбард кладет.
Слайд 91Иногда в контору приходил и сам Финогей Ипатыч с оброками, и
тогда на конторском столе раскладывались по пачкам те самые деньги, на которые так разгорались глаза у Степана Владимирыча.
— Ишь пропасть какая деньжищ! — восклицал он, — и все-то к ней в хайло уйдут! нет того, чтоб сыну пачечку уделить! на мол, сын мой, в горести находящийся! вот тебе на вино и на табак!
— Ишь пропасть какая деньжищ! — восклицал он, — и все-то к ней в хайло уйдут! нет того, чтоб сыну пачечку уделить! на мол, сын мой, в горести находящийся! вот тебе на вино и на табак!
Слайд 92И затем начинались бесконечные и исполненные цинизма разговоры с Яковом -
земским о том, какими бы средствами сердце матери так смягчить, чтоб она души в нем не чаяла.
— В Москве у меня мещанин знакомый был, — рассказывал Головлев, — так он «слово» знал... Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это «слово» и скажет... И сейчас это всю ее корчить начнет, руки, ноги — словом, всё!
— Порчу, стало быть, какую ни на есть пущал! — догадывался Яков - земский.— Ну, уж там как хочешь разумей, а только истинная это правда, что такое «слово» есть.
— В Москве у меня мещанин знакомый был, — рассказывал Головлев, — так он «слово» знал... Бывало, как не захочет ему мать денег дать, он это «слово» и скажет... И сейчас это всю ее корчить начнет, руки, ноги — словом, всё!
— Порчу, стало быть, какую ни на есть пущал! — догадывался Яков - земский.— Ну, уж там как хочешь разумей, а только истинная это правда, что такое «слово» есть.
Слайд 94…Целые часы проводились в подобных разговорах, но средств все - таки
не обреталось. Всё — либо проклятие на себя наложить приходилось, либо душу черту продать. В результате ничего другого не оставалось, как жить на «маменькином положении», поправляя его некоторыми произвольными поборами с сельских начальников, которых Степан Владимирыч поголовно обложил данью в свою пользу, в виде табаку, чаю и сахару.
Слайд 95Кормили его чрезвычайно плохо. Обыкновенно, приносили остатки маменькинова обеда, а так
как Арина Петровна была умеренна до скупости, то естественно, что на его долю оставалось немного. Это было в особенности для него мучительно, потому что с тех пор, как вино сделалось для него запретным плодом, аппетит его быстро усилился. С утра до вечера он голодал и только об том и думал, как бы наесться. Подкарауливал часы, когда маменька отдыхала, бегал в кухню, заглядывал даже в людскую и везде что-нибудь нашаривал.
Слайд 97По временам садился у открытого окна и поджидал, не проедет ли
кто. Ежели проезжал мужик из своих, то останавливал его и облагал данью: яйцом, ватрушкой и т. д. Еще при первом свидании, Арина Петровна в коротких словах выяснила ему полную программу его житья - бытья.
— Покуда — живи! — сказала она, — вот тебе угол в конторе, пить - есть будешь с моего стола, а на прочее — не погневайся, голубчик! Разносолов у меня от роду не бывало, а для тебя и пода̀вно заводить не стану. Вот братья ужо приедут: какое положение они промежду себя для тебя присоветуют — так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу, как братья решат — так тому и быть!
— Покуда — живи! — сказала она, — вот тебе угол в конторе, пить - есть будешь с моего стола, а на прочее — не погневайся, голубчик! Разносолов у меня от роду не бывало, а для тебя и пода̀вно заводить не стану. Вот братья ужо приедут: какое положение они промежду себя для тебя присоветуют — так я с тобой и поступлю. Сама на душу греха брать не хочу, как братья решат — так тому и быть!
Слайд 99И вот теперь он с нетерпением ждал приезда братьев. Но при
этом он совсем не думал о том, какое влияние будет иметь этот приезд на дальнейшую его судьбу (по - видимому, он решил, что об этом и думать нечего), а загадывал только, привезет ли ему брат Павел табаку, и сколько именно. «А может, и денег отвалит! — прибавлял он мысленно,
— Порфишка - кровопивец —
тот не даст, а Павел...
Скажу ему: дай, брат,
служивому на вино... даст! как, чай, не дать!»
— Порфишка - кровопивец —
тот не даст, а Павел...
Скажу ему: дай, брат,
служивому на вино... даст! как, чай, не дать!»
Слайд 100
Время проходило, и он не замечал его. Это была абсолютная праздность,
которою он, однако, почти не тяготился. Только по вечерам было скучно, потому что земский уходил часов в восемь домой, а для него Арина Петровна не отпускала свечей, на том основании, что по комнате взад и вперед шагать и без свечей можно. Но он и к этому скоро привык и даже полюбил темноту, потому что в темноте сильнее разыгрывалось воображение и уносило его далеко из постылого Головлева.
Слайд 102Одно его тревожило: сердце у него неспокойно было и как -
то странно трепыхалось в груди, в особенности когда он ложился спать. Иногда он вскакивал с постели, словно ошеломленный, и бегал по комнате, держась рукой за левую сторону груди. «Эх, кабы околеть! — думалось ему при этом, — нет, ведь, не околею! А может быть...»
Слайд 103Но когда однажды утром земский таинственно доложил ему, что ночью братцы
приехали, — он невольно вздрогнул и изменился в лице. Что-то ребяческое вдруг в нем проснулось; хотелось бежать поскорее в дом, взглянуть, как они одеты, какие постланы им постели и есть ли у них такие же дорожные несессеры, как он видел у одного ополченского капитана; хотелось послушать, как они будут говорить с маменькой, подсмотреть, что будут им подавать за обедом. Словом сказать, хотелось и еще раз приобщиться к той жизни, которая так упорно отметала его от себя, броситься к матери в ноги, вымолить ее прощение и потом, на радостях, пожалуй, съесть и упитанного тельца.
Слайд 105Еще в доме было все тихо, а он уж сбегал к
повару на кухню и узнал, что к обеду заказано: на горячее щи из свежей капусты, небольшой горшок, да вчерашний суп разогреть велено, на холодное — полоток соленый да сбоку две пары котлеточек, на жаркое — баранину да сбоку четыре бекасика, на пирожное — малиновый пирог со сливками.
— Вчерашний суп, полоток и баранина — это, брат, постылому! — сказал он повару, — пирога, я полагаю, мне тоже не дадут!
— Это как будет угодно маменьке, сударь.
- Не даст! А чего бы, кажется, жалеть! Дупель — птица вольная: ни кормить ее, ни смотреть за ней — сама на свой счет живет! И дупель некупленный, и баран некупленный — а вот поди ж ты! знает, ведьма, что дупель вкуснее баранины, — ну и не даст! Сгноит, а не даст!
— Вчерашний суп, полоток и баранина — это, брат, постылому! — сказал он повару, — пирога, я полагаю, мне тоже не дадут!
— Это как будет угодно маменьке, сударь.
- Не даст! А чего бы, кажется, жалеть! Дупель — птица вольная: ни кормить ее, ни смотреть за ней — сама на свой счет живет! И дупель некупленный, и баран некупленный — а вот поди ж ты! знает, ведьма, что дупель вкуснее баранины, — ну и не даст! Сгноит, а не даст!
Слайд 107А на завтрак что заказано?— Печенка заказана, грибы в сметане, со̀чни...
— Ты бы хоть соченька мне прислал... постарайся, брат!
— Надо постараться. А вы вот что, сударь. Ужо, как завтракать братцы сядут, пришлите сюда земского: он вам парочку соченьков за пазухой пронесет.
Все утро прождал Степан Владимирыч, не придут ли братцы, но братцы не шли. Наконец, часов около одиннадцати, принес земский два обещанных сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальной.
— Надо постараться. А вы вот что, сударь. Ужо, как завтракать братцы сядут, пришлите сюда земского: он вам парочку соченьков за пазухой пронесет.
Все утро прождал Степан Владимирыч, не придут ли братцы, но братцы не шли. Наконец, часов около одиннадцати, принес земский два обещанных сочня и доложил, что братцы сейчас отзавтракали и заперлись с маменькой в спальной.
Слайд 109
Арина Петровна встретила сыновей торжественно, удрученная горем. Две девки поддерживали ее
под руки; седые волосы прядями выбились из-под белого чепца, голова понурилась и покачивалась из стороны в сторону, ноги едва волочились. Вообще она любила в глазах детей разыграть роль почтенной и удрученной матери и в этих случаях с трудом волочила ноги и требовала, чтобы ее поддерживали под руки девки.
Слайд 111Степка - балбес называл такие торжественные приемы — архиерейским служением, мать
— архиерейшею, а девок Польку и Юльку — архиерейшиными жезлоносицами.
Слайд 112 … свидание произошло без слов. Молча подала она детям руку
для целования, молча перецеловала и перекрестила их, и когда Порфирий Владимирыч изъявил готовность хоть весь остаток ночи
прокалякать с милым
другом маменькой, то
махнула рукой, сказав:
— Ступайте! отдохните с дороги! не до разговоров теперь, завтра поговорим.
прокалякать с милым
другом маменькой, то
махнула рукой, сказав:
— Ступайте! отдохните с дороги! не до разговоров теперь, завтра поговорим.
Слайд 113 На другой день, утром, оба сына отправились к папеньке ручку
поцеловать, но папенька ручки не дал. Он лежал на постели с закрытыми глазами и, когда вошли дети, крикнул:
— Мытаря судить приехали?.. вон, фарисеи... вон!..
— Мытаря судить приехали?.. вон, фарисеи... вон!..
Слайд 114
… После завтрака она (Арина Петровна) пригласила сыновей в свою спальную.
Когда дверь была заперта на ключ, Арина Петровна немедленно приступила к делу, по поводу которого был созван семейный совет.
— Балбес - то ведь явился! — начала она.
— Слышали, маменька, слышали! — отозвался Порфирий Владимирыч не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал.
— Балбес - то ведь явился! — начала она.
— Слышали, маменька, слышали! — отозвался Порфирий Владимирыч не то с иронией, не то с благодушием человека, который только что сытно покушал.
Слайд 116— Пришел, словно и дело сделал, словно так и следовало: сколько
бы, мол, я ни кутил, ни мутил, у старухи матери всегда про меня кусок хлеба найдется! Сколько я в своей жизни ненависти от него видела! сколько от одних его буффонств да каверзов мучения вытерпела! Что я в ту пору трудов приняла, чтоб его на службу-то втереть! — и все как с гуся вода! Наконец билась - билась, думаю: господи! да коли он сам об себе радеть не хочет — неужто я обязана из-за него, балбеса долговязого, жизнь свою убивать! Дай, думаю, выкину ему кусок, авось свой грош в руки попадет — постепеннее будет! И выкинула.
Слайд 118Сама и дом-то для него высмотрела, сама собственными руками, как одну
копейку, двенадцать тысячек серебром денег
выложила! И что ж!
не прошло после того и
трех лет — ан он и опять
у меня на шее повис!
Долго ли мне надругательства-то эти переносить?
выложила! И что ж!
не прошло после того и
трех лет — ан он и опять
у меня на шее повис!
Долго ли мне надругательства-то эти переносить?
Слайд 119Каково мне было узнать, что он родительское - то благословение, словно
обглоданную кость, в помойную яму выбросил? Каково мне было чувствовать, что я, с позволения сказать, ночей недосыпала, куска недоедала,
а он — на - тко! Словно
вот взял, купил на базаре
бирюльку —
не занадобилась,
и выкинул ее за окно!
Это родительское-то благословение!
а он — на - тко! Словно
вот взял, купил на базаре
бирюльку —
не занадобилась,
и выкинул ее за окно!
Это родительское-то благословение!
Слайд 120- И хоть бы он меня, мерзавец, предупредил! Виноват, мол, маменька,
так и так — не воздержался! Я ведь и сама, кабы вовремя, сумела бы за бесценок дом-то приобрести! Не сумел недостойный сын пользоваться, — пусть попользуются достойные дети! Ведь он, шутя - шутя, дом - то, пятнадцать процентов в год интересу принесет! Может быть, я бы ему за это еще тысячку рублей на бедность выкинула! А то — на - тко! сижу здесь, ни сном, ни делом не вижу, а он уж и распорядился! Двенадцать тысяч собственными руками за дом выложила, а он его с аукциона в восьми тысячах спустил!
Слайд 122
- Вот теперь и судите: каково мне видеть, что после
таких-то, можно сказать, истязаний, трудовые мои денежки, ни дай ни вынеси за что, в помойную яму выброшены!
— Так вот я затем вас и призвала, — вновь начала Арина Петровна, — судите вы меня с ним, со злодеем! Как вы скажете, так и будет! Его осу́дите — он будет виноват, меня осу́дите — я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам! — прибавила она совсем неожиданно.
— Так вот я затем вас и призвала, — вновь начала Арина Петровна, — судите вы меня с ним, со злодеем! Как вы скажете, так и будет! Его осу́дите — он будет виноват, меня осу́дите — я виновата буду. Только уж я себя злодею в обиду не дам! — прибавила она совсем неожиданно.
Слайд 124 Порфирий Владимирыч почувствовал, что праздник на его улице наступил, и
разошелся соловьем. Но, как истинный кровопивец, он не приступил к делу прямо, а начал с околичностей.
— Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение, — сказал он, — то вот оно в двух словах: дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости — вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, — все принадлежит родителям. Поэтому, родители могут судить детей; дети же родителей — никогда. Обязанность детей — чтить, а не судить. Вы говорите: судите меня с ним! Это великодушно, милая маменька, веллли-ко-лепно! Но можем ли мы без страха даже подумать об этом, мы, от первого дня рождения облагодетельствованные вами с головы до ног? Воля ваша, но это будет святотатство, а не суд! Это будет такое святотатство, такое святотатство...
— Если вы позволите мне, милый друг маменька, выразить мое мнение, — сказал он, — то вот оно в двух словах: дети обязаны повиноваться родителям, слепо следовать указаниям их, покоить их в старости — вот и все. Что такое дети, милая маменька? Дети — это любящие существа, в которых все, начиная от них самих и кончая последней тряпкой, которую они на себе имеют, — все принадлежит родителям. Поэтому, родители могут судить детей; дети же родителей — никогда. Обязанность детей — чтить, а не судить. Вы говорите: судите меня с ним! Это великодушно, милая маменька, веллли-ко-лепно! Но можем ли мы без страха даже подумать об этом, мы, от первого дня рождения облагодетельствованные вами с головы до ног? Воля ваша, но это будет святотатство, а не суд! Это будет такое святотатство, такое святотатство...
Слайд 126— Стой! погоди! коли ты говоришь, что не можешь меня судить,
так оправь меня, а его осуди! — прервала его Арина Петровна, которая вслушивалась и никак не могла разгадать: какой такой подвох у Порфишким - кровопивца в голове засел.
Слайд 127— Нет, голубушка маменька, и этого не могу! Или, лучше сказать,
не смею и не имею права. Ни оправлять, ни обвинять — вообще судить не могу. Вы — мать, вам одним известно, как с нами, вашими детьми, поступать. Заслужили мы — вы наградите нас, провинились — накажите. Наше дело — повиноваться, а не критиковать. Если б вам пришлось даже и переступить, в минуту родительского гнева, меру справедливости — и тут мы не смеем роптать, потому что пути провидения скрыты от нас. Кто знает? Может быть, это и нужно так! Так-то и здесь: брат Степан поступил низко, даже, можно сказать, черно̀, но определить степень возмездия, которое он заслуживает за свой поступок, можете вы одни!
Слайд 129
— Стало быть, ты отказываешься? Выпутывайтесь, мол, милая маменька, как сами
знаете!
— Ах, маменька, маменька! и не грех это вам! Ах-ах-ах! Я говорю: как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет — а вы... ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете!
— Хорошо. Ну, а ты как? — обратилась Арина Петровна к Павлу Владимирычу.
— Ах, маменька, маменька! и не грех это вам! Ах-ах-ах! Я говорю: как вам угодно решить участь брата Степана, так пусть и будет — а вы... ах, какие вы черные мысли во мне предполагаете!
— Хорошо. Ну, а ты как? — обратилась Арина Петровна к Павлу Владимирычу.
Слайд 131— Мне что ж! Разве вы меня послушаетесь? — заговорил Павел
Владимирыч словно сквозь сон, но потом неожиданно захрабрился и продолжал: — Известно, виноват... на куски рвать... в ступе истолочь... вперед известно... мне что ж! Пробормотавши эти бессвязные слова, он остановился и с разинутым ртом смотрел на мать, словно сам не верил ушам своим.
Слайд 132— Ну, голубчик, с тобой — после! — холодно оборвала его
Арина Петровна, — ты, я вижу, по Степкиным следам идти хочешь... И вот какое мое решение будет: попробую и еще раз добром с ним поступить: отделю ему папенькину вологодскую деревнюшку, велю там флигелечек небольшой поставить — и пусть себе живет, вроде как убогого, на прокормлении у крестьян!
Слайд 133Хотя Порфирий Владимирыч и отказался от суда над братом, но великодушие
маменьки так поразило его, что он никак не решился скрыть от нее опасные последствия, которые влекла за собой сейчас высказанная мера.
— Маменька! — воскликнул он, — вы больше, чем великодушны! Вы видите перед собой поступок... ну, самый низкий, черный поступок... и вдруг все забыто, все прощено! Веллли-ко-лепно. Но извините меня... боюсь я, голубушка, за вас! Как хотите меня судите, а на вашем месте... я бы так не поступил!
— Это почему?— Не знаю... Может быть, во мне нет этого великодушия... этого, так сказать, материнского чувства... Но все как-то сдается: а что, ежели брат Степан, по свойственной ему испорченности, и с этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым?
— Маменька! — воскликнул он, — вы больше, чем великодушны! Вы видите перед собой поступок... ну, самый низкий, черный поступок... и вдруг все забыто, все прощено! Веллли-ко-лепно. Но извините меня... боюсь я, голубушка, за вас! Как хотите меня судите, а на вашем месте... я бы так не поступил!
— Это почему?— Не знаю... Может быть, во мне нет этого великодушия... этого, так сказать, материнского чувства... Но все как-то сдается: а что, ежели брат Степан, по свойственной ему испорченности, и с этим вторым вашим родительским благословением поступит точно так же, как и с первым?
Слайд 135 Оказалось, однако, что соображение это уж было в виду у
Арины Петровны, но что, в то же время, существовала и другая сокровенная мысль, которую и пришлось теперь высказать.
— Вологодское-то именье ведь папенькино, родовое, — процедила она сквозь зубы, — рано или поздно все-таки придется ему из папенькинова имения часть выделять.
— Понимаю я это, милый друг маменька...— А коли понимаешь, так, стало быть, понимаешь и то, что, выделивши ему вологодскую-то деревню, можно обязательство с него стребовать, что он от папеньки отделен и всем доволен?
— Вологодское-то именье ведь папенькино, родовое, — процедила она сквозь зубы, — рано или поздно все-таки придется ему из папенькинова имения часть выделять.
— Понимаю я это, милый друг маменька...— А коли понимаешь, так, стало быть, понимаешь и то, что, выделивши ему вологодскую-то деревню, можно обязательство с него стребовать, что он от папеньки отделен и всем доволен?
Слайд 137
— Понимаю и это, голубушка маменька. Большую вы тогда, по доброте
вашей, ошибку сделали! Надо было тогда, как вы дом покупали, — тогда надо было обязательство с него взять, что он в папенькино именье не вступщик!
— Что делать! не догадалась!
— Тогда он, на радостях-то, какую угодно бумагу бы подписал! А вы, по доброте вашей... ах, какая это ошибка была! такая ошибка! такая ошибка!
— Что делать! не догадалась!
— Тогда он, на радостях-то, какую угодно бумагу бы подписал! А вы, по доброте вашей... ах, какая это ошибка была! такая ошибка! такая ошибка!
Слайд 139
— «Ах» да «ах» — ты бы в ту пору, ахало,
ахал, как время было. Теперь ты все готов матери на голову свалить, а чуть коснется до дела — тут тебя и нет! А впрочем, не об бумаге и речь: бумагу, пожалуй, я и теперь сумею от него вытребовать. Папенька-то не сейчас, чай, умрет, а до тех пор балбесу тоже пить-есть надо. Не выдаст бумаги — можно и на порог ему указать: жди папенькиной смерти! Нет, я все-таки знать желаю: тебе не нравится, что я вологодскую деревнюшку хочу ему отделить?
Слайд 141 — Промотает он ее, голубушка! дом промотал — и деревню
промотает!— А промотает, так пусть на себя и пеняет!
— К вам же ведь он тогда придет!
— Ну нет, это дудки! И на порог к себе его не пущу! Не только хлеба — воды ему, постылому, не вышлю! И люди меня за это не осудят, и бог не накажет. На-тко! дом прожил, имение прожил — да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другие дети есть!
— И все-таки к вам он придет. Наглый ведь он, голубушка маменька!
— Говорю тебе: на порог не пущу! Что ты, как сорока, заладил: «придет» да «придет» — не пущу!
— К вам же ведь он тогда придет!
— Ну нет, это дудки! И на порог к себе его не пущу! Не только хлеба — воды ему, постылому, не вышлю! И люди меня за это не осудят, и бог не накажет. На-тко! дом прожил, имение прожил — да разве я крепостная его, чтобы всю жизнь на него одного припасать? Чай, у меня и другие дети есть!
— И все-таки к вам он придет. Наглый ведь он, голубушка маменька!
— Говорю тебе: на порог не пущу! Что ты, как сорока, заладил: «придет» да «придет» — не пущу!
Слайд 143Арина Петровна умолкла и уставилась глазами в окно. Она и сама
смутно понимала, что вологодская деревнюшка только временно освободит ее от «постылого», что в конце концов он все - таки и ее промотает, и опять придет к ней, и что, как мать, она не может отказать ему в угле, но мысль, что ее ненавистник останется при ней навсегда, что он, даже заточенный в контору, будет, словно привидение, ежемгновенно преследовать ее воображение — эта мысль до такой степени давила ее, что она невольно всем телом вздрагивала.
— Ни за что! — крикнула она наконец, стукнув кулаком по столу и вскакивая с кресла. А Порфирий Владимирыч смотрел на милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою.
— А ведь вы, маменька, гневаетесь! — наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать.
— Ни за что! — крикнула она наконец, стукнув кулаком по столу и вскакивая с кресла. А Порфирий Владимирыч смотрел на милого друга маменьку и скорбно покачивал в такт головою.
— А ведь вы, маменька, гневаетесь! — наконец произнес он таким умильным голосом, словно собирался у маменьки брюшко пощекотать.
Слайд 145
Арина Петровна очень хорошо поняла, что Порфишка - кровопивец только петлю
закидывает, и потому окончательно рассердилась.
— Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь! — прикрикнула она на него, — мать об деле говорит, а он — скоморошничает! Нечего зубы-то мне заговаривать! сказывай, какая твоя мысль! В Головлеве, что ли, его, у матери на шее, оставить хочешь?
— Точно так, маменька, если милость ваша будет. Оставить его на том же положении, как и теперь, да и бумагу насчет наследства от него вытребовать.
— Так... так... знала я, что ты это присоветуешь. Ну хорошо. Положим, что сделается по - твоему. Как ни несносно мне будет ненавистника моего всегда подле себя видеть, — ну, да видно пожалеть обо мне некому.
— Шутовку ты, что ли, из меня сделать хочешь! — прикрикнула она на него, — мать об деле говорит, а он — скоморошничает! Нечего зубы-то мне заговаривать! сказывай, какая твоя мысль! В Головлеве, что ли, его, у матери на шее, оставить хочешь?
— Точно так, маменька, если милость ваша будет. Оставить его на том же положении, как и теперь, да и бумагу насчет наследства от него вытребовать.
— Так... так... знала я, что ты это присоветуешь. Ну хорошо. Положим, что сделается по - твоему. Как ни несносно мне будет ненавистника моего всегда подле себя видеть, — ну, да видно пожалеть обо мне некому.
Слайд 147
Покуда мы с папенькой живы — ну и он будет жить
в Головлеве, с голоду не помрет. А потом как?
— Маменька! друг мой! Зачем же черные мысли?
— Черные ли, белые ли — подумать все - таки надо. Не молоденькие мы. Поколеем оба — что с ним тогда будет?
— Маменька! да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? в таких ли мы правилах вами были воспитаны?
— Маменька! друг мой! Зачем же черные мысли?
— Черные ли, белые ли — подумать все - таки надо. Не молоденькие мы. Поколеем оба — что с ним тогда будет?
— Маменька! да неужто ж вы на нас, ваших детей, не надеетесь? в таких ли мы правилах вами были воспитаны?
Слайд 149Арина Петровна ... смотрела на него (Порфирия) и думала: неужто он
в самом деле такой кровопивец, что брата родного на улицу выгонит?
— Ну, делай как знаешь! В Головлеве так в Головлеве ему жить! — наконец, сказала она, — окружил ты меня кругом! опутал! начал с того: как вам, маменька, будет угодно! а под конец заставил - таки меня под свою дудку плясать! Ну, только слушай ты меня! Ненавистник он мне, всю жизнь он меня казнил да позорил, а наконец и над родительским благословением моим надругался, а все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти — нет тебе моего благословения! Нет, нет и нет! Ступайте теперь оба к нему! чай, он и буркалы-то свои проглядел, вас высматриваючи!
— Ну, делай как знаешь! В Головлеве так в Головлеве ему жить! — наконец, сказала она, — окружил ты меня кругом! опутал! начал с того: как вам, маменька, будет угодно! а под конец заставил - таки меня под свою дудку плясать! Ну, только слушай ты меня! Ненавистник он мне, всю жизнь он меня казнил да позорил, а наконец и над родительским благословением моим надругался, а все-таки, если ты его за порог выгонишь или в люди заставишь идти — нет тебе моего благословения! Нет, нет и нет! Ступайте теперь оба к нему! чай, он и буркалы-то свои проглядел, вас высматриваючи!
Слайд 152Степан Владимирыч удивительно освоился с своим новым положением. По временам ему
до страсти хотелось «дерябнуть», «куликнуть» и вообще «закатиться» (у него, как увидим дальше, были даже деньги для этого), но он с самоотвержением воздерживался, словно рассчитывая, что «самое время» еще не наступило. Теперь он был ежеминутно занят, ибо принимал живое и суетливое участие в процессе припасания, бескорыстно радуясь и печалясь удачам и неудачам головлевского скопидомства.
Слайд 154В каком - то азарте пробирался он от конторы к погребам,
в одном халате, без шапки, хоронясь от матери позади деревьев и всевозможных клетушек, загромождавших красный двор (Арина Петровна, впрочем, не раз замечала его в этом виде, и закипало-таки ее родительское сердце, чтоб Степку - балбеса хорошенько осадить, но, по размышлении, она махнула на него рукой), и там с лихорадочным нетерпением следил, как разгружались подводы, приносились с усадьбы банки, бочонки, кадушки, как все это сортировалось и, наконец, исчезало в зияющей бездне погребов и. кладовых. В большей части случаев он оставался доволен.
Слайд 156— Сегодня рыжиков из Дубровина привезли две телеги — вот, брат,
так рыжики! — в восхищении сообщал он земскому, — а мы уж думали, что на зиму без рыжиков останемся! Спасибо, спасибо дубровинцам! молодцы дубровинцы! выручили!
Слайд 157
Или:
— Сегодня мать карасей в пруду наловить велела — ах, хороши старики! Больше чем в поларшина есть!
Должно быть, мы всю
эту неделю карасями питаться будем!
— Сегодня мать карасей в пруду наловить велела — ах, хороши старики! Больше чем в поларшина есть!
Должно быть, мы всю
эту неделю карасями питаться будем!
Слайд 158Иногда, впрочем, и печалился.
— Огурчики-то, брат, нынче не удались! Корявые да с пятнами — нет настоящего огурца, да и шабаш! Видно, прошлогодними будем питаться, а нынешние — в застольную, больше некуда! Но вообще хозяйственная система Арины Петровны не удовлетворяла его.
— Сколько, брат, она добра перегноила — страсть! Таскали нынче, таскали: солонину, рыбу, огурцы — все в застольную велела отдать! Разве это дело? разве расчет таким образом хозяйство вести! Свежего запасу пропасть, а она и не прикоснется к нему, покуда всей старой гнили не приест!
— Сколько, брат, она добра перегноила — страсть! Таскали нынче, таскали: солонину, рыбу, огурцы — все в застольную велела отдать! Разве это дело? разве расчет таким образом хозяйство вести! Свежего запасу пропасть, а она и не прикоснется к нему, покуда всей старой гнили не приест!
Слайд 160
Уверенность Арины Петровны, что с Степки - балбеса какую - угодно
бумагу без труда стребовать можно, оправдалась вполне. Он не только без возражений подписал все присланные ему матерью бумаги, но даже хвастался в тот же вечер земскому:— Сегодня, брат, я всё бумаги подписывал. Отка̀зные всё — чист теперь! Ни плошки, ни ложки — ничего теперь у меня нет, да и впредь не предвидится! Успокоил старуху!
Слайд 162 С братьями он расстался мирно и был в восторге, что
теперь у него целый запас табаку. Конечно, он не мог воздержаться, чтоб не обозвать Порфишу кровопивушкой и Иудушкой, но выражения эти совершенно незаметно утонули в целом потоке болтовни, в которой нельзя было уловить ни одной связной мысли.
Слайд 163На прощанье братцы расщедрились и даже дали денег, причем Порфирий Владимирыч
сопровождал свой дар следующими словами:— Маслица в лампадку занадобится или богу свечечку поставить захочется — ан деньги-то и есть! Так-то, брат! Живи - ко, брат, тихо да смирно — и маменька будет тобой довольна, и тебе будет покойно, и всем нам весело и радостно. Мать — ведь она добрая, друг!
— Добрая-то добрая, — согласился и Степан Владимирыч, — только вот солониной протухлой кормит!
— А кто виноват? кто над родительским благословением надругался? — сам виноват, сам именьице-то спустил! А именьице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное именьице! Вот кабы ты повел себя скромненько да ладненько, ел бы ты и говядинку и телятинку, а не то так и соусцу бы приказал. И всего было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку... Так ли, брат, я говорю?
— Добрая-то добрая, — согласился и Степан Владимирыч, — только вот солониной протухлой кормит!
— А кто виноват? кто над родительским благословением надругался? — сам виноват, сам именьице-то спустил! А именьице-то какое было: кругленькое, превыгодное, пречудесное именьице! Вот кабы ты повел себя скромненько да ладненько, ел бы ты и говядинку и телятинку, а не то так и соусцу бы приказал. И всего было бы у тебя довольно: и картофельцу, и капустки, и горошку... Так ли, брат, я говорю?
Слайд 165… Но Степка-балбес именно тем и счастлив был, что слух его,
так сказать, не задерживал посторонних речей. Иудушка мог говорить сколько угодно и быть вполне уверенным, что ни одно его слово не достигнет по назначению. Одним словом,
Степан Владимирыч
проводил братьев
дружелюбно и не без
самодовольства показал
Якову - земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания.
Степан Владимирыч
проводил братьев
дружелюбно и не без
самодовольства показал
Якову - земскому две двадцатипятирублевые бумажки, очутившиеся в его руке после прощания.
Слайд 166— Теперь, брат, мне надолго станет! — сказал он, — табак
у нас есть, чаем и сахаром мы обеспечены, только вина недоставало — захотим, и вино будет! Впрочем, покуда еще придержусь — времени теперь нет, на погреб бежать надо! Не присмотри крошечку — мигом растащат! А видела, брат, она меня, видела, ведьма, как я однажды около застольной по стенке пробирался!
Слайд 167Стоит это у окна, смотрит, чай, на меня да думает: то-то
я огурцов не досчитываюсь, — ан вот оно что! Но вот наконец и октябрь на дворе: полились дожди, улица почернела и сделалась непроходимою.
Слайд 168Степану Владимирычу некуда было выйти, потому что на ногах у него
были заношенные папенькины туфли, на плечах старый папенькин халат. Безвыходно сидел он у окна в своей комнате и сквозь двойные рамы смотрел на крестьянский поселок, утонувший в грязи.
Слайд 169Там, среди серых испарений осени, словно черные точки, проворно мелькали люди,
которых не успела сломить летняя страда. Страда не прекращалась, а только получила новую обстановку, в которой летние ликующие тоны заменились непрерывающимися осенними сумерками. Овины курились за полночь, стук цепов унылою дробью разносился по всей окрестности. В барских ригах тоже шла молотьба, и в конторе поговаривали, что вряд ли ближе масленицы управиться со всей массой господского хлеба. Все глядело сумрачно, сонно, все говорило об угнетении.
Слайд 171Двери конторы уже не были отперты настежь, как летом, и в
самом ее помещении плавал сизый туман от испарений мокрых полушубков. Трудно сказать, какое впечатление производила на Степана Владимирыча картина трудовой деревенской осени, и даже сознавал ли он в ней страду, продолжающуюся среди месива грязи, под непрерывным ливнем дождя; но достоверно, что серое, вечно слезящееся небо осени давило его. Казалось, что оно висит непосредственно над его головой и грозит утопить его в разверзнувшихся хлябях земли. У него не было другого дела, как смотреть в окно и следить за грузными массами облаков.
Слайд 173 … В комнате уж совсем темно; в конторе еще сумерничают,
не зажигают огня; остается только ходить, ходить, ходить без конца. Болезненная истома сковывает ум; во всем организме, несмотря на бездеятельность, чувствуется
беспричинное,
невыразимое утомление;
одна только мысль мечется,
сосет и давит — и эта мысль: гроб! гроб! гроб!
беспричинное,
невыразимое утомление;
одна только мысль мечется,
сосет и давит — и эта мысль: гроб! гроб! гроб!
Слайд 174
… Вечера он проводил в конторе, потому что Арина Петровна,
по-прежнему, не отпускала для него свечей. Несколько раз просил он через бурмистра, чтоб прислали ему сапоги и полушубок, но получил ответ, что сапогов для него не припасено, а вот наступят заморозки, то будут ему выданы валенки. Очевидно, Арина Петровна намеревалась буквально выполнить свою программу: содержать постылого в такой мере, чтоб он только не умер с голоду.
Слайд 176Сначала он ругал мать, но потом словно забыл об ней; сначала
он что - то припоминал, потом перестал и припоминать. Даже свет свечей, зажженных в конторе, и тот опостылел ему, и он затворялся в своей комнате, чтоб остаться один на один с темнотою. Впереди у него был только один ресурс, которого он покуда еще боялся, но который с неудержимою силой тянул его к себе. Этот ресурс — напиться и позабыть. Позабыть глубоко, безвозвратно, окунуться в волну забвения до того, чтоб и выкарабкаться из нее было нельзя. Все увлекало его в эту сторону: и буйные привычки прошлого, и насильственная бездеятельность настоящего, и больной организм с удушливым кашлем, с несносною, ничем не вызываемою одышкой, с постоянно усиливающимися колотьями сердца.
Слайд 178Наконец он не выдержал.
—
Сегодня, брат, надо ночью штоф припасти, — сказал он однажды земскому голосом, не предвещавшим ничего доброго. Сегодняшний штоф привел за собой целый последовательный ряд новых, и с этих пор он аккуратно каждую ночь напивался. В девять часов, когда в конторе гасили свет и люди расходились по своим логовищам, он ставил на стол припасенный штоф с водкой и ломоть черного хлеба, густо посыпанный солью. Не сразу приступал он к водке, а словно подкрадывался к ней.
Слайд 180
Кругом все засыпало мертвым сном; только мыши скреблись за отставшими от
стен обоями да часы назойливо чикали в конторе. Снявши халат, в одной рубашке, сновал он взад и вперед по жарко натопленной комнате, по временам останавливался, подходил к столу, нашаривал в темноте штоф и вновь принимался за ходьбу. Первые рюмки он выпивал с прибаутками, сладострастно всасывая в себя жгучую влагу; но мало-помалу биение сердца учащалось, голова загоралась — и язык начинал бормотать что-то несвязное.
Слайд 182
Притупленное воображение силилось создать какие - то образы, помертвелая память пробовала
прорваться в область прошлого, но образы выходили разорванные, бессмысленные, а прошлое не откликалось ни единым воспоминанием, ни горьким, ни светлым, словно между ним и настоящей минутой раз навсегда встала плотная стена. Перед ним было только настоящее в форме наглухо запертой тюрьмы, в которой бесследно потонула и идея пространства, и идея времени.
Слайд 184Комната, печь, три окна в наружной стене, деревянная скрипучая кровать и
на ней тонкий притоптанный тюфяк, стол с стоящим на нем штофом — ни до каких других горизонтов мысль не додумывалась. Но, по мере того, как убывало содержание штофа, по мере того, как голова распалялась, — даже и это скудное чувство настоящего становилось не под силу. Бормотанье, имевшее вначале хоть какую-нибудь форму, окончательно разлагалось; зрачки глаз, усиливаясь различить очертания тьмы, безмерно расширялись; самая тьма, наконец, исчезала, и взамен ее являлось пространство, наполненное фосфорическим блеском.
Слайд 186Это была бесконечная пустота, мертвая, не откликающаяся ни единым жизненным звуком,
зловеще-лучезарная. Она следовала за ним по пятам, за каждым оборотом его шагов. Ни стен, ни окон, ничего не существовало; одна безгранично тянущаяся, светящаяся пустота. Ему становилось страшно; ему нужно было заморить в себе чувство действительности до такой степени, чтоб даже пустоты этой не было. Еще несколько усилий — и он был у цели. Спотыкающиеся ноги из стороны в сторону носили онемевшее тело, грудь издавала не бормотанье, а хрип, самое существование как бы прекращалось.
Слайд 188Наступало то странное оцепенение, которое, нося на себе все признаки отсутствия
сознательной жизни, вместе с тем несомненно указывало на присутствие какой-то особенной жизни, развивавшейся независимо от каких бы то ни было условий.
Стоны за стонами
вырывались из груди,
нимало не нарушая сна;
органический недуг
продолжал свою разъедающую
работу, не причиняя, по - видимому,
физических болей.
Стоны за стонами
вырывались из груди,
нимало не нарушая сна;
органический недуг
продолжал свою разъедающую
работу, не причиняя, по - видимому,
физических болей.
Слайд 189Утром, он просыпался со светом, и вместе с ним просыпались: тоска,
отвращение, ненависть. Ненависть без протеста, ничем не обусловленная, ненависть к чему-то неопределенному, не имеющему образа. Воспаленные глаза бессмысленно останавливаются то на одном, то на другом предмете и долго и пристально смотрят; руки и ноги дрожат; сердце то замрет,
словно вниз покатится, то начнет
колотить с такою силой, что рука
невольно хватается за грудь.
Ни одной мысли, ни одного желания.
словно вниз покатится, то начнет
колотить с такою силой, что рука
невольно хватается за грудь.
Ни одной мысли, ни одного желания.
Слайд 190 Перед глазами печка, и мысль до того переполняется этим представлением,
что не принимает никаких других впечатлений. Потом окно заменило печку, как окно, окно, окно... Не нужно ничего, ничего, ничего не нужно. Трубка набивается и закуривается машинально и недокуренная опять выпадает из рук; язык что-то бормочет, но, очевидно, только по привычке. Самое лучшее: сидеть и молчать, молчать и смотреть в одну точку. Хорошо бы опохмелиться в такую минуту; хорошо бы настолько поднять температуру организма, чтобы хотя на короткое время ощутить присутствие жизни, но днем ни за какие деньги нельзя достать водки. Нужно дожидаться ночи, чтобы опять дорваться до тех блаженных минут, когда земля исчезает из-под ног и вместо четырех постылых стен перед глазами открывается беспредельная светящаяся пустота.
Слайд 192Арина Петровна не имела ни малейшего понятия о том, как «балбес»
проводит время в конторе. Случайный проблеск чувства, мелькнувший было в разговоре с кровопивцем Порфишкой, погас мгновенно, так что она и не заметила. С ее стороны не было даже систематического образа действия, а было простое забвение. Она совсем потеряла из виду, что подле нее, в конторе, живет существо, связанное с ней кровными узами, существо, которое, быть может, изнывает в тоске по жизни. Как сама она, раз войдя в колею жизни, почти машинально наполняла ее одним и тем же содержанием, так, по мнению ее, должны были поступать и другие.
Слайд 194Ей не приходило на мысль, что самый характер жизненного содержания изменяется
сообразно с множеством условий, так или иначе сложившихся, и что наконец для одних (и в том числе для нее) содержание это представляет нечто излюбленное, добровольно избранное, а для других — постылое и невольное. Поэтому, хотя бурмистр неоднократно докладывал ей, что Степан Владимирыч «нехорош», но доклады эти проскальзывали мимо ушей, не оставляя в ее уме никакого впечатления. Много - много если она отвечала на них стереотипною фразой:
— Небось отдышится, еще нас с тобой переживет! Что ему, жеребцу долговязому, делается! Кашляет! иной сряду тридцать лет кашляет, и все равно что с гуся вода!
— Небось отдышится, еще нас с тобой переживет! Что ему, жеребцу долговязому, делается! Кашляет! иной сряду тридцать лет кашляет, и все равно что с гуся вода!
Слайд 196Тем не менее, когда ей однажды утром доложили, что Степан Владимирыч
ночью исчез из Головлева, она вдруг пришла в себя. Немедленно разослала весь дом на поиски и лично приступила к следствию, начав с осмотра комнаты, в которой жил постылый. Первое, что поразило ее, — это стоявший на столе штоф, на дне которого еще плескалось немного жидкости и который впопыхах не догадались убрать.
— Это что? — спросила она, как бы не понимая.
— Стало быть... занимались, — отвечал, заминаясь, бурмистр.
— Кто доставал? — начала было она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр.
— Это что? — спросила она, как бы не понимая.
— Стало быть... занимались, — отвечал, заминаясь, бурмистр.
— Кто доставал? — начала было она, но потом спохватилась и, затаив свой гнев, продолжала осмотр.
Слайд 198Комната была грязна, черна, заслякощена так, что даже ей, не знавшей
и не признававшей никаких требований комфорта, сделалось неловко. Потолок был закопчен, обои на стенах треснули и во многих местах висели клочьями, подоконники чернели под густым слоем табачной золы, подушки валялись на полу, покрытом липкою грязью, на кровати лежала скомканная простыня, вся серая от насевших на нее нечистот. В одном окне зимняя рама была выставлена или, лучше сказать, выдрана, и самое окно оставлено приотворенным: этим путем, очевидно, и исчез постылый.
Слайд 200Арина Петровна инстинктивно взглянула на улицу и перепугалась еще больше. На
дворе стоял уж ноябрь в начале, но осень в этот год была особенно продолжительна, и морозы еще не наступали. И дорога и поля — все стояло черное, размокшее, невылазное. Как он прошел? куда? И тут же ей вспомнилось, что на нем ничего не было, кроме халата да туфлей, из которых одна была найдена под окном, и что всю прошлую ночь, как на грех, не переставаючи шел дождь.
— Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала! — молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, тютюна и прокислых овчин.
— Давненько-таки я у вас здесь, голубчики, не бывала! — молвила она, вдыхая в себя вместо воздуха какую-то отвратительную смесь сивухи, тютюна и прокислых овчин.
Слайд 202Весь день, покуда люди шарили по лесу, она простояла у окна,
с тупым вниманием вглядываясь в обнаженную даль. Из - за балбеса да такая кутерьма! — ей казалось, что это какой-то нелепый сон. Говорила тогда, что надо его в вологодскую деревню сослать — так нет, лебезит проклятый Иудушка: оставьте, маменька, в Головлеве! — вот и купайся теперь с ним! Жил бы он там заглазно, как хотел, — и Христос бы с ним! Свое дело сделала: один кусок промотал — другой выбросила! А другой бы промотал — ну, и не погневайся, батюшка! Бог — и тот на ненасытную утробу не напасется! И все бы у нас было смирно да мирно, а теперь — легко ли штуку какую удрал! ищи его по лесу да свищи!
Слайд 204
Хорошо еще, как живого в дом привезут — ведь с пьяных-то
глаз и в петлю угодить недолго! Взял веревку, зацепил за сук, обмотал кругом шеи, да и был таков! Мать ночей недосыпала, куска недоедала, а он, на - тко, какую моду выдумал — вешаться вздумал. И добро бы худо ему было, есть - пить бы не давали, работой бы изнуряли — а то слонялся целый день взад и вперед по комнате, как оглашенный, ел да пил, ел да пил! Другой бы не знал, чем мать отблагодарить, а он вешаться вздумал — вот так одолжил сынок любезный!
Слайд 206
Но на этот раз предположения Арины Петровны относительно насильственной смерти балбеса
не оправдались. К вечеру в виду Головлева показалась кибитка, запряженная парой крестьянских лошадей, и подвезла беглеца к конторе. Он находился в полубесчувственном состоянии, весь избитый, порезанный, с посинелым и распухшим лицом. Оказалось, что за ночь он дошел до дубровинской усадьбы, отстоявшей в двадцати верстах от Головлева.
Слайд 208Целые сутки после того он проспал, на другие — проснулся. По
обыкновению, он начал шагать назад и вперед по комнате, но к трубке не прикоснулся, словно позабыл, и на все вопросы не проронил ни одного слова. С своей стороны, Арина Петровна настолько восчувствовала, что чуть было не приказала перевести его из конторы в барский дом, но потом успокоилась и опять оставила балбеса в конторе, приказавши вымыть и почистить его комнату, переменить постельное белье, повесить на окнах шторы и проч.
Слайд 210
На другой день вечером, когда ей доложили, что Степан Владимирыч проснулся,
она велела позвать его в дом к чаю и даже отыскала ласковые тоны для объяснения с ним.
— Ты куда ж это от матери уходил? — начала она, — знаешь ли, как ты мать-то обеспокоил? Хорошо еще, что папенька ни об чем не узнал, — каково бы ему было при его - то положении?
— Ты куда ж это от матери уходил? — начала она, — знаешь ли, как ты мать-то обеспокоил? Хорошо еще, что папенька ни об чем не узнал, — каково бы ему было при его - то положении?
Слайд 212Но Степан Владимирыч, по - видимому, остался равнодушным к материнской ласке
и уставился неподвижными, стеклянными глазами на сальную свечку, как бы следя за нагаром, который постепенно образовывался на фитиле.
— Ах, дурачок, дурачок! — продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее, — хоть бы ты подумал, какая через тебя про мать слава пойдет! Ведь завистников-то у ней — слава богу! и невесть что наплетут! Скажут, что и не кормила - то, и не одевала - то... ах, дурачок, дурачок!
— Ах, дурачок, дурачок! — продолжала Арина Петровна все ласковее и ласковее, — хоть бы ты подумал, какая через тебя про мать слава пойдет! Ведь завистников-то у ней — слава богу! и невесть что наплетут! Скажут, что и не кормила - то, и не одевала - то... ах, дурачок, дурачок!
Слайд 214
То же молчание, и тот же неподвижный, бессмысленно устремленный в одну
точку взор.
— И чем тебе худо у матери стало! Одет ты и сыт — слава богу! И теплехонько тебе, и хорошохонько... чего бы, кажется, искать! Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой, — на то и деревня! Веселиев да балов у нас нет — и все сидим по углам да скучаем! Вот я и рада была бы поплясать да песни попеть — ан посмотришь на улицу, и в церковь-то божию в этакую мо̀креть ехать охоты нет!
— И чем тебе худо у матери стало! Одет ты и сыт — слава богу! И теплехонько тебе, и хорошохонько... чего бы, кажется, искать! Скучно тебе, так не прогневайся, друг мой, — на то и деревня! Веселиев да балов у нас нет — и все сидим по углам да скучаем! Вот я и рада была бы поплясать да песни попеть — ан посмотришь на улицу, и в церковь-то божию в этакую мо̀креть ехать охоты нет!
Слайд 216Арина Петровна остановилась в ожидании, что балбес хоть что-нибудь промычит; но
балбес словно окаменел. Сердце мало - помалу закипает в ней, но она все еще сдерживается.
— А ежели ты чем недоволен был — кушанья, может быть, недостало, или из белья там, — разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить — неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и винца — ну, захотелось тебе винца, ну, и Христос с тобой! Рюмка, две рюмки — неужто матери жалко? А то на - тко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!
— А ежели ты чем недоволен был — кушанья, может быть, недостало, или из белья там, — разве не мог ты матери откровенно объяснить? Маменька, мол, душенька, прикажите печеночки или там ватрушечки изготовить — неужто мать в куске-то отказала бы тебе? Или вот хоть бы и винца — ну, захотелось тебе винца, ну, и Христос с тобой! Рюмка, две рюмки — неужто матери жалко? А то на - тко: у раба попросить не стыдно, а матери слово молвить тяжело!
Слайд 218Но напрасны были все льстивые слова: Степан Владимирыч не только не
расчувствовался (Арина Петровна надеялась, что он ручку у ней поцелует) и не обнаружил раскаяния, но даже как будто ничего не слыхал.
Слайд 219
С этих пор он, безусловно, замолчал. По целым дням ходил по
комнате, наморщив угрюмо лоб, шевеля губами и не чувствуя усталости. Временами останавливался, как бы желая что - то выразить, но не находил слова. По - видимому, он не утратил способности мыслить; но впечатления так слабо задерживались в его мозгу, что он тотчас же забывал их. Поэтому неудача в отыскании нужного слова не вызывала в нем даже нетерпения.
Слайд 221Арина Петровна с своей стороны думала, что он непременно подожжет усадьбу.
— Целый день молчит! — говорила она, — ведь думает же, балбес, об чем - нибудь, покуда молчит! вот помяните мое слово, ежели он усадьбы не спалит!
Слайд 222Но балбес просто совсем не думал. Казалось, он весь погрузился в
безрассветную мглу, в которой нет места не только для действительности, но и для фантазии. Мозг его вырабатывал нечто, но это нечто не имело отношения ни к прошедшему, ни к настоящему, ни к будущему. Словно черное облако окутало его с головы до ног, и он всматривался в него, в него одного, следил за его воображаемыми колебаниями и по временам вздрагивал и словно оборонялся от него. В этом загадочном облаке потонул для него весь физический и умственный мир...
Слайд 224В декабре того же года Порфирий Владимирыч получил от Арины Петровны
письмо следующего содержания: «Вчера утром постигло нас новое, ниспосланное от господа испытание: сын мой, а твой брат, Степан, скончался. Еще с вечера накануне был здоров совершенно и даже поужинал, а наутро найден в постеле мертвым — такова сей жизни скоротечность! И что всего для материнского сердца прискорбнее: так, без напутствия, и оставил сей суетный мир, дабы устремиться в область неизвестного. Сие да послужит нам всем уроком: кто семейными узами небрежет — всегда должен для себя такого конца ожидать.
Слайд 226
И неудачи в сей жизни, и напрасная смерть, и вечные мучения
в жизни следующей — все из сего источника происходит. Ибо как бы мы ни были высокоумны и даже знатны, но ежели родителей не почитаем, то оные как раз и высокоумие, и знатность нашу в ничто обратят. Таковы правила, кои всякий живущий в сем мире человек затвердить должен, а рабы, сверх того, обязаны почитать господ.
Слайд 228Впрочем, несмотря на сие, все почести отшедшему в вечность были отданы
сполна, яко сыну. Покров из Москвы выписали, а погребение совершал известный тебе отец архимандрит соборне.
Слайд 230Жаль сына, но роптать не смею, и вам, дети мои, не
советую. Ибо кто может сие знать? — мы здесь ропщем, а его душа в горних увеселяется!»